Мир не в фокусе - [55]
Я так и не узнал, что Жиф написал на доске. Может быть, похвалу красоте или поэму, или размышление об искусстве, или окончательный ответ на вопрос о смысле жизни. А может быть, и имя героини. Как бы то ни было, я кивнул ему в ответ, и нечего было к этому возвращаться. Да оно и к лучшему, так как вернуться к тому же самому теперь было бы очень непросто. В тот момент, когда мимолетной картинкой запечатлелся на натянутой простыне профиль любовницы, которая откинула голову, подставляя всю себя солнцу, когда настало время узнать всю правду, я сунул смычок в бобину с кинолентой, подобно тому как мы подносим палец ко рту, чтобы призвать к тишине, и, как по волшебству, она остановилась. В кино больше всего удручает, что оно всегда в движении, что оно не способно противостоять неотвратимому бегу времени, агонии вещей, не способно предложить ничего взамен угасанию, кадр за кадром, жизненных сил, а если героиней была Тео, то тем более стоило прерваться на минуту, рассмотреть все не спеша. Оставалось только подойти поближе, выставив вперед руку и стараясь не заслонить своей тенью экран: если это твоя тайна, все произойдет совсем скоро, Тео.
Скоро все и произошло: в центре кадра появилась черная точка, которая быстро расплывалась, как чернильное пятно по промокашке, разъедая пленку, покрывая сахарной глазурью обнаженные тела, а следом за ними — профиль женщины и ее волосы, накрывая все изображение, размывая его, так что под ним обнажался белый экран, а над проектором в это время поднималась тонкая струйка дыма. Я поспешно выдернул смычок, но было уже поздно разгадывать тайну героини. И наперстка хватило бы, чтобы собрать пепел, который летал по хлеву. Гитарист, закрыв глаза, стучал ногой о земляной пол, отбивая такт, лицо его застилал сигаретный дым, который струился у него между пальцами, он был слишком далеко, и его не заботили разрушения, причиненные остановкой фильма. Он воспользовался моим самоустранением и снова затянул песню, в которой звал маму, отгородившись от всего своими гастрономическими причудами, равнодушный к дурманящим голову вопросам любви, ответы на которые искали в двух шагах от него, на залитой светом белой простыне. Пора было уходить.
Я положил волшебные очки на видное место на кухонном столе. Они не открыли мне ничего нового, о чем бы я не догадывался сам. Разве только то, что одна и та же оправа, надевая которую я бледнел от ужаса и мне хотелось провалиться сквозь землю, та же самая оправа на носу у Жифа не отпугивала в ответственный момент девиц. В остальном же очки ни на йоту не прибавляли ясности. Возле кошачьей миски валялся карандаш, я взял его и размашистым почерком написал поперек листа: «Жиф, твой фильм великолепен», — и это не было вежливой отпиской; положа руку на сердце, я не смог бы назвать другой фильм, который произвел бы на меня столь сильное впечатление. Не стоило и голову ломать, перебирая свои лучшие кинематографические воспоминания — а в кино я тогда ходил каждую неделю — я мог сказать, что фильм «Гробница моей бабушки» был самым прекрасным, самым насыщенным, подлинным, волнующим, самым драматичным и интригующим, самым забавным (разумеется, если иметь в виду поворот судьбы) из всего, что я видел до сих пор. Да к тому же и самым эфемерным. Не следовало больше тянуть с отъездом. С верхнего этажа, из комнаты, где совещались Парадокс и Экивок, раздались какие-то звуки, я потихоньку убрал скрипку в футляр и закрыл за собой обе створки двери как раз в тот момент, когда голос Жифа осведомился, что за странный запах наполняет чердак.
Чтобы шум мотора не привлекал внимания, я довел свой Велосолекс до поворота дороги, подавляя в себе желание повернуть назад, что казалось все более невероятным по мере того, как я отдалялся от дома. Все-таки совесть у меня была нечиста, хотя Жиф и сам стремился к этому: он мечтал о фильме-антифильме, о фильме — отрицании фильма, и он получил его, даже в еще более радикальном варианте: у него был фильм-больше-уже-не-фильм. Устроенное мной аутодафе стало апофеозом его эстетических воззрений, идеальным революционным актом и, вероятно, последним свидетельством о монго-аустенистском искусстве.
Стемнело, и луна, засев в засаде за густой завесой облаков, разливала чернильный свет на окрестные поля, вынуждая меня завести мотор, чтобы осветить себе путь. Операция выполнялась по всем классическим канонам, что отличает истинного профессионала. Вы бежите рядом со стрекочущей машиной, и когда мотор заводится, заскакиваете на треугольное седло. До сегодняшнего дня этот акробатический номер давался мне без труда. На сей же раз то ли из-за поспешного бегства, отъезда под покровом ночи, то ли из-за страха, что вот сейчас меня окликнут и потребуют объяснений по поводу новой версии Жанны, Иветты или Тео в огне, но переднее колесо вдруг вывернулось, велосипед резко затормозил, и я перелетел через руль. До самого приземления я ждал, что мой мозг, воспользовавшись полетом, прокрутит в ускоренном темпе весь фильм моей жизни в извлечениях — все ее яркие моменты. А я бы тогда узнал, какие ее эпизоды оставили самый глубокий след: не те, что я выбрал сам — смерть отца, траур, Фраслен, утопленница и другие мои невзгоды, — мне открылась бы ускользнувшая от меня деталь, которая повлияла на ход моей жизни, как камешек, что преграждает дорогу ручью у его истоков, и в результате Луара впадает в Атлантический океан, а не в Средиземное море. Но, очевидно, в моей жизни не произошло ничего значительного, о чем бы я ни знал, или ничего существенного, или не было желания снова пережить пережитое, а может быть, мой мозг работал на холостых оборотах. Но только со мной случился приступ амнезии, и этот ночной полет не принес ничего; и я коснулся земли, вернее, воды, потому что в канаве, куда я свалился, стояла дождевая вода и не пересыхала в ней, верно, никогда, кроме, разве что, засушливых лет, но на мое счастье нынешний год был не из таких, и оттого мое возвращение на землю было почти мягким.
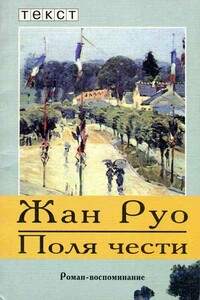
«Поля чести» (1990) — первый роман известного французского писателя Жана Руо. Мальчик, герой романа, разматывает клубок семейных воспоминаний назад, к событию, открывающему историю XX века, — к Первой мировой войне. Дойдя до конца книги, читатель обнаруживает подвох: в этой вроде как биографии отсутствует герой. Тот, с чьим внутренним миром мы сжились и чьими глазами смотрели, так и не появился.Издание осуществлено в рамках программы «Пушкин» при поддержке Министерства иностранных дел Франции и Посольства Франции в России.

Хеленка Соучкова живет в провинциальном чешском городке в гнетущей атмосфере середины 1970-х. Пражская весна позади, надежды на свободу рухнули. Но Хеленке всего восемь, и в ее мире много других проблем, больших и маленьких, кажущихся смешными и по-настоящему горьких. Смерть ровесницы, страшные сны, школьные обеды, злая учительница, любовь, предательство, фамилия, из-за которой дразнят. А еще запутанные и непонятные отношения взрослых, любимые занятия лепкой и немецким, мечты о Праге. Дитя своего времени, Хеленка принимает все как должное, и благодаря ее рассказу, наивному и абсолютно честному, мы видим эту эпоху без прикрас.

Логики больше нет. Ее похороны организуют умалишенные, захватившие власть в психбольнице и учинившие в ней культ; и все идет своим свихнутым чередом, пока на поминки не заявляется непрошеный гость. Так начинается матово-черная комедия Микаэля Дессе, в которой с мироздания съезжает крыша, смех встречает смерть, а Даниил Хармс — Дэвида Линча.

ББК 84. Р7 84(2Рос=Рус)6 П 58 В. Попов Запомните нас такими. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. — 288 с. ISBN 5-94214-058-8 «Запомните нас такими» — это улыбка шириной в сорок лет. Известный петербургский прозаик, мастер гротеска, Валерий Попов, начинает свои веселые мемуары с воспоминаний о встречах с друзьями-гениями в начале шестидесятых, затем идут едкие байки о монстрах застоя, и заканчивает он убийственным эссе об идолах современности. Любимый прием Попова — гротеск: превращение ужасного в смешное. Книга так же включает повесть «Свободное плавание» — о некоторых забавных странностях петербургской жизни. Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Администрации Санкт-Петербурга © Валерий Попов, 2003 © Издательство журнала «Звезда», 2003 © Сергей Шараев, худож.

ББК 84.Р7 П 58 Художник Эвелина Соловьева Попов В. Две поездки в Москву: Повести, рассказы. — Л.: Сов. писатель, 1985. — 480 с. Повести и рассказы ленинградского прозаика Валерия Попова затрагивают важные социально-нравственные проблемы. Героям В. Попова свойственна острая наблюдательность, жизнеутверждающий юмор, активное, творческое восприятие окружающего мира. © Издательство «Советский писатель», 1985 г.

Две неразлучные подруги Ханна и Эмори знают, что их дома разделяют всего тридцать шесть шагов. Семнадцать лет они все делали вместе: устраивали чаепития для плюшевых игрушек, смотрели на звезды, обсуждали музыку, книжки, мальчишек. Но они не знали, что незадолго до окончания школы их дружбе наступит конец и с этого момента все в жизни пойдет наперекосяк. А тут еще отец Ханны потратил все деньги, отложенные на учебу в университете, и теперь она пропустит целый год. И Эмори ждут нелегкие времена, ведь ей предстоит переехать в другой город и расстаться с парнем.

«Узники Птичьей башни» - роман о той Японии, куда простому туристу не попасть. Один день из жизни большой японской корпорации глазами иностранки. Кира живёт и работает в Японии. Каждое утро она едет в Синдзюку, деловой район Токио, где высятся скалы из стекла и бетона. Кира признаётся, через что ей довелось пройти в Птичьей башне, развенчивает миф за мифом и делится ошеломляющими открытиями. Примет ли героиня чужие правила игры или останется верной себе? Книга содержит нецензурную брань.