Милосердная дорога - [18]
Жизнь, неотступная, предъявила свои требования и к Блоку. Уже за несколько дней до призыва сверстников — ратников ополчения, родившихся в 1880 году, А.А. начал волноваться и строить планы, ничего, впрочем, не предпринимая. Со мною он делился опасениями, и я, с жестокостью и требовательностью человека, поклоняющегося, в лице Блока, воплощенному величию, предлагал ему единственное, что казалось мне его достойным: идти в строй и отнюдь не «устраиваться». Возражения А. А. были детски беспомощны и не обоснованы, как у других, принципиально… «Ведь можно заразиться, лежа вповалку, питаясь из общего котла… ведь грязь, условия ужасные… Я мог бы устроиться в *** дивизии, где у меня родственник, но… не знаю, стоит ли». Так длилось несколько дней, и настал срок решиться.
«Мне легче было бы телом своим защитить вас от пули, чем помогать вам устраиваться», — полушутя, полусерьезно говорил я А.А. «Видно, так нужно, — возражал он. — Я все-таки кровно связан с интеллигенцией, а интеллигенция всегда была в “нетях”. Уж если я не пошел в революцию, то на войну и подавно идти не стоит».
Я познакомил А.А. с инженером Классеном, видным деятелем Союза Земств и Городов по организации инженерных дружин, и в последний момент А.А., за невозможностью подыскать что-либо более подходящее, был зачислен в табельщики и направлен на фронт.
Письмо А.А., сообщающее об этом и помеченное 8 июля 1916 года, кратко; вот оно:
«Вчера я зачислен в табельщики 13-й инженерно-строительной дружины и скоро уеду. Пока только кратко сообщаю Вам об этом и благодарю Вас. Что дальше — не различаю: “жизнь на Офицерской” только кажется простой, она сплетена хитро».
В военной форме, с узкими погонами «земсоюза», свежий, простой и изящный, как всегда, сидел Блок у меня за столом весною 1917 года; в Петербург он вернулся при первой возможности, откровенно сопричислив себя к дезертирам. О жизни в тылу позиций вспоминал урывками, неохотно; «война — глупость, дрянь…» — формулировал он, в конце концов, свои впечатления. На вопрос, трудно ли ему приходилось, по должности табельщика, с рабочими дружины, отвечал, что с рабочими имел дело и раньше, когда перестраивал дом у себя в имении, и что ругаться он умеет. (Едва ли, конечно, нужно это понимать в буквальном смысле. Помню, как, по его словам, «ругался» он в 1920 году по телефону, когда, дав согласие на участие в вечере и подготовившись к выступлению, так и не дождался обещанного автомобиля: брань его состояла в попытке истолковать устроителям вечера, что такое обращение с художником «возмутительно».)
Надо надеяться, что «военный» период жизни Блока будет освещен кем-либо из близко его наблюдавших. В то время, весною 1917 года, Блок всецело отдался новому потоку. Творческие силы художника, казалось, дремали. Личные неудобства, и тогда уже ощутительные, мало смущали его. Так, рассказывал он мне, что, сидя на скамье на одном из московских бульваров, показался он подозрительным двум солдатам; один пожелал арестовать его; другой сказал, подумав, что — не стоит, и оба ушли. Об этом случае А.А. вспоминал с мягкой и сочувственной улыбкой.
Тогда же поступил он на службу в Высшую следственную комиссию, занятую разбором дел представителей бывшего правительства; насколько знаю, он заведовал редакцией стенографических отчетов и лично присутствовал при допросах министров. С этого года вообще появился Блок «на людях» и стал встречаться, по долгу службы, с представителями «здравого смысла». В этом, может быть, величайшая из наших утрат; на этом пути он обрек себя, как художник, в жертву и отчаявшись в угодности ее, обрел мученический и пустынный конец…
Много, однако, прошло времени, прежде чем угасла, затлевая и вновь вспыхивая, прекрасная жизнь. Гордое и холодное лицо не отражало внутренней борьбы; усталость никому о себе не заявляла. А тогда, в 1917 году, переходил он, собрав последние силы, от «заранее подготовленных позиций» в тылу в безнадежное наступление.
Помню первые месяцы после Октябрьского переворота, темную по вечерам Офицерскую, звуки выстрелов под окнами квартиры А.А. и отрывочные его объяснения, что это — каждый день, что тут близко громят погреба. Помню холодное зимнее утро, когда, придя к нему, услышал, что он «прочувствовал до конца» и что все совершившееся надо «принять». Помню, как, склонившись над столом, составлял он наскоро открытое письмо М. Пришвину, обозвавшему его в одной из газет «земгусаром», что почему-то больно задело А.А. И, наконец, вспоминаю холодный и солнечный январский день, когда прочел я в рукописи только что написанные «Двенадцать».
В те дни хранил он, как всегда, внешнее спокойствие, и только некоторая страстность интонации обличала волнение. Круг его знакомств, деловых и дружеских, расширился и изменился; завязались отношения с представителями официального мира в лице новой художественно-просветительной администрации. Комиссариат по просвещению вовлек его в сферу своей деятельности; вначале готовился он принять деятельное участие в грандиозном плане переиздания классической русской литературы, а затем начал работать в Театральном отделе, в должности председателя Репертуарной секции. Литературное пристанище обрел он в то трудное время в левоэсеровских изданиях; были дни, когда идеология этой партии (к которой он, впрочем, никогда не принадлежал) и даже терминология ее держали его в своеобразном плену. «Подавляющее большинство человечества состоит из правых эсеров», — сказал он мне однажды, разумея под меньшинством эсеров левых. В дальнейшем увлечение это прошло, и лишь к многочисленным группам и кастам, претендующим на близость к Блоку, прибавилась в истории общественности, еще одна.

Автобиография выдающегося немецкого философа Соломона Маймона (1753–1800) является поистине уникальным сочинением, которому, по общему мнению исследователей, нет равных в европейской мемуарной литературе второй половины XVIII в. Проделав самостоятельный путь из польского местечка до Берлина, от подающего великие надежды молодого талмудиста до философа, сподвижника Иоганна Фихте и Иммануила Канта, Маймон оставил, помимо большого философского наследия, удивительные воспоминания, которые не только стали важнейшим документом в изучении быта и нравов Польши и евреев Восточной Европы, но и являются без преувеличения гимном Просвещению и силе человеческого духа.Данной «Автобиографией» открывается книжная серия «Наследие Соломона Маймона», цель которой — ознакомление русскоязычных читателей с его творчеством.

Работа Вальтера Грундмана по-новому освещает личность Иисуса в связи с той религиозно-исторической обстановкой, в которой он действовал. Герхарт Эллерт в своей увлекательной книге, посвященной Пророку Аллаха Мухаммеду, позволяет читателю пережить судьбу этой великой личности, кардинально изменившей своим учением, исламом, Ближний и Средний Восток. Предназначена для широкого круга читателей.

Фамилия Чемберлен известна у нас почти всем благодаря популярному в 1920-е годы флешмобу «Наш ответ Чемберлену!», ставшему поговоркой (кому и за что требовался ответ, читатель узнает по ходу повествования). В книге речь идет о младшем из знаменитой династии Чемберленов — Невилле (1869–1940), которому удалось взойти на вершину власти Британской империи — стать премьер-министром. Именно этот Чемберлен, получивший прозвище «Джентльмен с зонтиком», трижды летал к Гитлеру в сентябре 1938 года и по сути убедил его подписать Мюнхенское соглашение, полагая при этом, что гарантирует «мир для нашего поколения».

Константин Петрович Победоносцев — один из самых влиятельных чиновников в российской истории. Наставник двух царей и автор многих высочайших манифестов четверть века определял церковную политику и преследовал инаковерие, авторитетно высказывался о методах воспитания и способах ведения войны, давал рекомендации по поддержанию курса рубля и композиции художественных произведений. Занимая высокие посты, он ненавидел бюрократическую систему. Победоносцев имел мрачную репутацию душителя свободы, при этом к нему шел поток обращений не только единомышленников, но и оппонентов, убежденных в его бескорыстности и беспристрастии.

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Филарет Иванович Чернов (1878–1940) — талантливый поэт-самоучка, лучшие свои произведения создавший на рубеже 10-20-х гг. прошлого века. Ему так и не удалось напечатать книгу стихов, хотя они публиковались во многих популярных журналах того времени: «Вестник Европы», «Русское богатство», «Нива», «Огонек», «Живописное обозрение», «Новый Сатирикон»…После революции Ф. Чернов изредка печатался в советской периодике, работал внештатным литконсультантом. Умер в психиатрической больнице.Настоящий сборник — первое серьезное знакомство современного читателя с философской и пейзажной лирикой поэта.

Лидия Давыдовна Червинская (1906, по др. сведениям 1907-1988) была, наряду с Анатолием Штейгером, яркой представительницей «парижской ноты» в эмигрантской поэзии. Ей удалось очень тонко, пронзительно и честно передать атмосферу русского Монпарнаса, трагическое мироощущение «незамеченного поколения».В настоящее издание в полном объеме вошли все три прижизненных сборника стихов Л. Червинской («Приближения», 1934; «Рассветы», 1937; «Двенадцать месяцев» 1956), проза, заметки и рецензии, а также многочисленные отзывы современников о ее творчестве.Примечания:1.

Вере Сергеевне Булич (1898–1954), поэтессе первой волны эмиграции, пришлось прожить всю свою взрослую жизнь в Финляндии. Известность ей принес уже первый сборник «Маятник» (Гельсингфорс, 1934), за которым последовали еще три: «Пленный ветер» (Таллинн, 1938), «Бурелом» (Хельсинки, 1947) и «Ветви» (Париж, 1954).Все они полностью вошли в настоящее издание.Дополнительно републикуются переводы В. Булич, ее статьи из «Журнала Содружества», а также рецензии на сборники поэтессы.
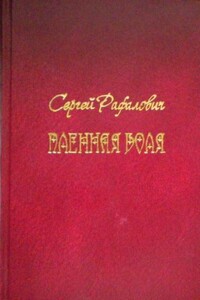
Сергей Львович Рафалович (1875–1944) опубликовал за свою жизнь столько книг, прежде всего поэтических, что всякий раз пишущие о нем критики и мемуаристы путались, начиная вести хронологический отсчет.По справедливому замечанию М. Л. Гаспарова. Рафалович был «автором стихов, уверенно поспевавших за модой». В самом деле, испытывая близость к поэтам-символистам, он охотно печатался рядом с акмеистами, писал интересные статьи о русском футуризме. Тем не менее, несмотря на обилие поэтической продукции, из которой можно отобрать сборник хороших, тонких, мастерски исполненных вещей, Рафалович не вошел практически ни в одну антологию Серебряного века и Русского Зарубежья.