Милосердие - [3]
Обескураженный генерал вновь сел в кресло. Его уже начинала раздражать эта затянувшаяся игра в милосердие, как плохая мелодрама на сцене провинциального театра, в которой все ясно с первых реплик, с первых сцен, а глупые актеры тщатся изображать что-то такое, что якобы неведомо скучающей публике. Какая разница: повесит он этих троих или помилует одного из них? Что получит город, армия, фронт? Повысится боеспособность, уменьшится мародерство, пополнится казна, возьмет верх благоразумие среди рабочего люда? Одним меньше, одним больше.
— Ну-с, негодяи, — кустистые брови барона взлетели. — Будете уверять меня, что все вами содеянное — результат вашего недомыслия? — И, так как он обратился сразу ко всем, трое переглянулись, но не ответили. Это еще больше взвинтило генерала. — Черт возьми, будем играть в молчанку? Я вас спрашиваю, — бегло глянул в листок, — господин Ляшенко.
К столу сделал шаг тот, кого он мысленно посчитал исполняющим должность начальника станции. И этот шаг предрешил исход встречи, допроса. Генерал не угадал. Дальнейшее делопроизводство для него лично не имело никакого практического значения. Он внутренне уже утвердил приговор военно-полевого суда: смертная казнь через повешение всем троим.
Но до чего же обманчива внешность! Он никогда не принадлежал к числу удачливых физиономистов. Мог ли четыре года назад поручиться, что этот тугодум, светский невежда Юденич сумеет сколотить такой кулак на северо-западе и держать в страхе новую столицу — красный Петроград. Но дай бог, войдет на Невский. Оттуда до Москвы четыреста верст. Или этот бесфлотный адмирал Колчак. Он, Петр Николаевич, дал бы голову на отсечение, если бы два года назад ему сказали, что Колчак станет единым, неделимым правителем русской Сибири. Но, тоже слава богу, этому бритоголовому ловеласу не удалось переправиться через Волгу. А то бы, чего доброго, въехал на белом коне в Кремль. Если бы не иностранные части, давно от Колчака не осталось бы воспоминаний. Эх, ему бы, барону Врангелю, те части! Поплясал бы он на костях большевиков. Если б да кабы, росли во рту грибы. И был бы не рот, а целый огород.
Генерал даже скривил губы в усмешке. Ну, ну, что скажет этот рафинированный весовщик, по данным допроса успевший упрятать эшелон медикаментов? Черт возьми, и это в то время, когда лучшие люди его армии захлебывались кровью, отражая вылазку десанта морячков Кожанова. И ведь знали, сволочи, где высаживаться — около металлургического завода. Нет, мало он, генерал, перевешал этих металлургов. А что прикажете делать, если при большевиках они умудрялись в мартенах варить не ахти какую, но сталь, а вот уже пятую неделю не выдали ни единого пуда? Воистину говорят: хочешь сделать — найдешь возможность, не хочешь — найдешь причину. Вот и этот будет извиваться как ужак на вилах.
— Ну-с, что скажете в свое оправдание?
— Я исполнял приказ. У меня все требования и накладные имелись в наличии. Но ваши люди при аресте изъяли всю документацию, — спокойно, с достоинством ответил Ляшенко.
Он знал, что после погрома, устроенного карателями в складской конторе, даже Шерлоку Холмсу вряд ли удалось бы обнаружить необходимые бумаги. Он знал также, что этот худосочный, желчный генерал (наверное, всю жизнь страдает гастритом) ни на йоту не верит его словам. И еще Ляшенко знал, что побывавший на допросе у Врангеля не выходил на свободу. Сначала, когда услышал приговор, внутри у него что-то оборвалось, ему стало так жаль себя, что слезы предательски выплеснулись на одутловатые щеки и застряли в бородке. Но когда он подумал, что вагон медикаментов уже прибыл на станцию Себряково, теперь уже отрезанную корпусом Буденного от Царицына, к нему вернулось мужество, и он готов был в любую минуту принять смерть. Идя в кабинет командующего, Ляшенко не знал, конечно, что именно его жизнь могла бы продлиться долгие годы, не имей он интеллигентского обличья.
— Крамола, ваше превосходительство, — с ненавистью глядя на весовщика, тихо произнес следователь по особым поручениям. — Все бумаги изъяты. Требований медицинской службы не обнаружено.
Генерал сочувственно покачал головой, как бы говоря: их и не могло быть, их просто не было, а вслух сказал:
— И они смеют говорить о моей жестокости!
Напольные часы в продолговатом мореного дуба футляре глухо пробили десять раз. В одиннадцать у командующего оперативное совещание. Сейчас принесут сводки. До прихода адъютанта ему хотелось закончить формальности с арестованными. Уже не затрудняя себя, Врангель спросил:
— Кто из вас господин Шамшин?
Рядом с весовщиком оказался тот, кого он принял за недотепу. Это внешнее несоответствие с занимаемой должностью даже чуть развлекло барона. Уж если кто и жертва среди них, подумал генерал, то Шамшин. Ну, и черт с ним, пусть теперь расплачивается за свою облатку, как говорят местные казаки. Спросил бегло, не надеясь услышать в ответ отрицание:
— У вас, разумеется, тоже был приказ на загрузку воинского эшелона гражданскими лицами?
— Нет, — чистосердечно признался исполняющий должность начальника станции. — Это были люди высокого патриотического долга. Они рвались на фронт. Я не мог не разделить их чувств.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть в новеллах волгоградского писателя Владимира Богомолова рассказывает о легендарном герое гражданской войны сербском интернационалисте Дундиче. По сути к ней примыкает цикл «Рассказы о мужестве», посвященный работе чекистов, подпольщиков, армейских разведчиков периода обороны Царицына.

Цикл «Рассказы о мужестве» посвящен работе чекистов, подпольщиков, армейских разведчиков периода обороны Царицына во время гражданской войны.

Цикл «Рассказы о мужестве» посвящен работе чекистов, подпольщиков, армейских разведчиков периода обороны Царицына во время гражданской войны.

Цикл «Рассказы о мужестве» посвящен работе чекистов, подпольщиков, армейских разведчиков периода обороны Царицына во время гражданской войны.

Цикл «Рассказы о мужестве» посвящен работе чекистов, подпольщиков, армейских разведчиков периода обороны Царицына во время гражданской войны.

Все произведения замечательного писателя-путешественника Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930 гг) собраны в одну электронную книгу. Кроме рисунков и этнографических фото-материалов, книга содержит малоизвестные фотографии автора, его родственников и сподвижников.Сборка: diximir (YouTube). 2017 год.

Далёкое античное время. VI в. до н.э. – II в. н.э., когда идёт интенсивное освоение греками Тавриды, местный воинственный народ – тавры оказывают пришельцам яростное сопротивление. Тавры-пираты, по словам Геродота ”Приносят жертву богине Деве, потерпевших кораблекрушения и всех эллинов, которых захватят в открытом море”. Исторические новеллы и роман Владлена Авинда ”Пираты Черного моря” написаны на исторических фактах и упоминаниях древних учёных, взятых из античной истории. Страницы рассказывают о том лихом времени жестоких атак пиратов у берегов Тавриды.

Герой этой книги – не кровожадный вампир, созданный пером бульварного писаки Брема Стокера, а реальная историческая личность. Румынский, а точнее – валашский, господарь Влад III Басараб, известный также как Влад Дракула, талантливый военачальник, с небольшой армией вынужденный противостоять огромной Османской империи. Если бы венгерский союзник Влада всё же сдержал обещание и выступил в поход, то кто знает, как повернулось бы дело. Однако помощь из Венгрии не пришла, а Влад оказался в венгерской тюрьме, оклеветанный и осуждённый теми, кто так и не решился поддержать его в священной борьбе за свободу от турецкого владычества.
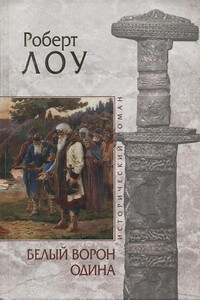
Юный ярл Орм по-прежнему возглавляет Обетное Братство — отряд викингов, спаянный узами общей клятвы, принесенной Всеотцу Одину: быть вместе и в мире, и в войне. Его побратимы, казалось бы, остепенились и прочно осели на берегу, но огонь приключений и опасности в их сердцах не угас. И снова они отправляются в поход за проклятым серебром Аттилы, к необъятным просторам Травяного моря. Спокойная жизнь на суше не для побратимов — такая уж у них судьба. Но теперь викинги не одни — вместе с ними из Новгорода идет дружина юного князя Владимира, которому также не терпится добраться до сокровищ великого завоевателя.
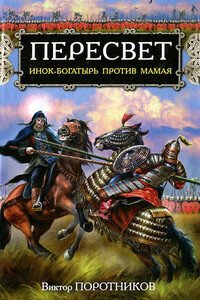
Он начал Куликовскую битву, сразив в единоборстве монгольского богатыря Челубея и заплатив за свой подвиг жизнью. Он вышел на поединок против закованного в доспехи степняка, не надев даже кольчуги, в монашеской рясе, с крестом на груди — и пал бездыханным на труп поверженного врага, «смертью смерть поправ», вдохновив русское войско на победу над Мамаевыми полчищами.Что еще мы знаем о легендарном Пересвете? Да почти ничего. Историки спорят даже о том, откуда он был родом — из Брянска или Любеча… Новый роман от автора бестселлеров «Побоище князя Игоря», «Злой город» против Батыя» и «Куликовская битва» восполняет этот пробел, по крупицам восстанавливая историю жизни Александра Пересвета, в которой были и война с Тевтонским орденом, и немецкий плен, и побег, и отцовское проклятие, и монашеский постриг, и благословение Сергия Радонежского, открывшего иноку Александру его великое предназначение — пожертвовать жизнью «за други своя», укрепив дух войска перед кровавой сечей, в которой решалась судьба Русской Земли и Русского народа.
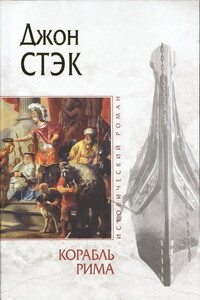
III в. до н. э. Два могучих государства — республиканский Рим и Карфаген — вступили в смертельную схватку. Но победы на суше не являются решающими. Лишь тот, кто властвует на Средиземном море, победит в этой войне.Флот карфагенян силен, их флотоводцы опытны. Рим же обладает лишь небольшими кораблями, способными плавать в прибрежных водах. Республике нужно срочно построить военные суда и обучить моряков.За плечами римлянина центуриона Септимия двенадцать лет воинской службы, он закален дисциплиной и битвами. Капитан Аттик — грек, для римлян человек второго сорта, опыт морехода получил в сражениях с пиратами, наводившими ужас на прибрежные города Республики.

Цикл «Рассказы о мужестве» посвящен работе чекистов, подпольщиков, армейских разведчиков периода обороны Царицына во время гражданской войны.

Цикл «Рассказы о мужестве» посвящен работе чекистов, подпольщиков, армейских разведчиков периода обороны Царицына во время гражданской войны.

Цикл «Рассказы о мужестве» посвящен работе чекистов, подпольщиков, армейских разведчиков периода обороны Царицына во время гражданской войны.