Микроурбанизм. Город в деталях - [3]
При всей подвижности и даже, возможно, неопределенности предлагаемой нами аналитической рамки и связанных с ней исследовательских инструментов и тактик можно говорить о некоторых фиксированных точках, которые позволяют наметить определенные ориентиры предлагаемого нами подхода, – это язык концептуализации города, микрооптика и игра с масштабами, антропологизм.
Сборник объединяет довольно разные темы и аналитические перспективы. При этом используемый авторами язык позволяет-таки увидеть в этих текстах нечто общее, он становится главным средством и показателем “синхронизации”, одной из точек пересечения. Примечательно, что в представленных текстах авторы крайне осторожно обращаются с существующими теориями города и нередко предпочитают интуицию или филигранные контекстуализации теоретической лояльности. Наши собственные поиски, равно как и усилия наших коллег, постоянно наталкивались на ощутимую недостаточность генерализирующих категорий, которые предлагают социальные теории, столь хорошо улавливающие и одновременно создающие масштаб, последовательность и стабильность городской жизни и оказывающиеся беспомощными перед ее точечностью, прерывистостью, эфемерностью, прорывающейся витальностью и множественностью. “Плавание под метафизическими парусами”[9] – восприятие города как системы классификаций и типичных опытов, аналитическая дистанция – зачастую гарантирует лишь успешное (вос)производство клише и общих суждений. Классическая сентенция о слепоте горожанина словно требует в качестве дополнения признания немоты городского исследователя.
Впрочем, эта “немота” довольно специфична. В современном российском дебате о городе сложилась, на наш взгляд, парадоксальная ситуация. С одной стороны, городские исследования крайне популярны. Это направление все время “на слуху”, даже можно говорить о своего рода моде на урбанизм. Происходит множество различных событий, разворачивающихся в рамках этой тематики: проходят конференции и летние школы, открываются новые подструктуры и направления в учебных и исследовательских заведениях, проводятся исследования. Подобное внимание к городу вполне объяснимо – это не только зримые и поразительные изменения в облике городов, но и появление феномена нового городского активизма как действенного способа изменения фрагментов повседневности. С другой стороны, публикаций, посвященных городской тематике, немного. Кажется, что исследователи работают либо в жанре аналитического отчета, не достигающего широкой аудитории, либо в “устном жанре”, и оттого множество интересных результатов исследований и новых концептуализаций и подходов к пониманию города остается в пределах академических залов и аудиторий или превращается в письменный формат уже в неакадемических пространствах, пример чему – “городские священные войны” на просторах фейсбука. Впрочем, возможно, это особенность российской академии и российских интеллектуалов. Так или иначе, систематизирующих, обобщающих и даже исследовательских текстов в области городских исследований не так много[10]. По сути, основная идея сборника – “оживить город”, привлекая самые разные стратегии и средства, среди которых – новые имена в поле городских исследований, нетрадиционные исследовательские темы и пр. Таким же средством может и должен стать “обновленный” язык говорения о городе, который необходимо развивать не только в качестве аналитического, но и дескриптивного инструмента. Ибо не хватает не только аналитических средств, но и языка создания “картинок” городской жизни, что, конечно же, является также средством анализа и концептуализации. Классическое этнографическое или плотное описание, на наш взгляд, недостаточно и скучно. Это отчужденный, дистанцирующий, объективизирующий язык, который производит “город на расстоянии”. Наша задача – приблизить город и показать вариативность регистров приближения, в том числе и через язык. Близкий город – это город, который проживается и который насыщен переживаниями и эмоциями. Именно поэтому язык говорения о нем – это скорее язык глаголов[11], по сути, отражающих жизнь горожан, их активное потребление и производство городского пространства. И в меньшей степени это язык прилагательных и существительных, которые в городских текстах зачастую универсализируют и герметизируют, объективируют и отдаляют.
Центральная стратегия работы с языком в рамках микроурбанизма, на наш взгляд, связана прежде всего с расширением пространства его производства. В это производство могут включаться не только социальные исследователи, что, конечно, не может не расшатывать существующую социальную теорию, ну да это только во благо ее развития. Так, в отличие от многих социальных теорий, тексты о городе, создаваемые архитекторами, городскими активистами, арт-манифестами, обнаруживают гораздо большую способность к тонкой настройке. Они не только обосновывают необходимость внимания к нюансам, городским особенностям и локальным контекстам, но и подкрепляют ее созданием нового аналитического языка (в отдельных случаях столь приближенного к обыденному, что изрядно затрудняет его идентификацию в качестве ценного приобретения).

Сегодня мало кто сомневается, что современный город создается и изменяется во многом благодаря цифровым технологиям. Однако до сих пор не существует согласия относительно роли горожан в интенсивно технологизирующейся среде. Их рассматривают и как пассивных генераторов данных, и как послушных пользователей технологий. Но нельзя игнорировать факт, что горожане сегодня активно включаются в переопределение цифровых инструментов, что они не только осваивают преимущества сетей, но и обнаруживают их уязвимости, начинают все более сложным и непредсказуемым образом влиять на технологии и управление городами.
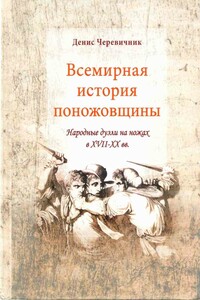
Вниманию читателей предлагается первое в своём роде фундаментальное исследование культуры народных дуэлей. Опираясь на богатейший фактологический материал, автор рассматривает традиции поединков на ножах в странах Европы и Америки, окружавшие эти дуэли ритуалы и кодексы чести. Читатель узнает, какое отношение к дуэлям на ножах имеют танго, фламенко и музыка фаду, как финский нож — легендарная «финка» попал в Россию, а также кто и когда создал ему леденящую душу репутацию, как получил свои шрамы Аль Капоне, почему дело Джека Потрошителя вызвало такой резонанс и многое, многое другое.
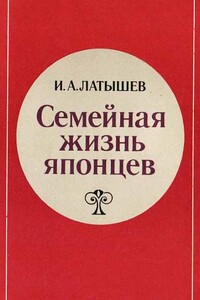
Книга посвящена исследованию семейных проблем современной Японии. Большое внимание уделяется общей характеристике перемен в семейном быту японцев. Подробно анализируются практика помолвок, условия вступления в брак, а также взаимоотношения мужей и жен в японских семьях. Существенное место в книге занимают проблемы, связанные с воспитанием и образованием детей и духовным разрывом между родителями и детьми, который все более заметно ощущается в современной Японии. Рассматриваются тенденции во взаимоотношениях японцев с престарелыми родителями, с родственниками и соседями.
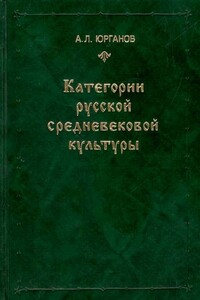
В монографии изучается культура как смыслополагание человека. Выделяются основные категории — самоосновы этого смыслополагания, которые позволяют увидеть своеобразный и неповторимый мир русского средневекового человека. Книга рассчитана на историков-профессионалов, студентов старших курсов гуманитарных факультетов институтов и университетов, а также на учителей средних специальных заведений и всех, кто специально интересуется культурным прошлым нашей Родины.

Книга посвящена исследованию исторической, литературной и иконографической традициям изображения мусульман в эпоху крестовых походов. В ней выявляются общие для этих традиций знаки инаковости и изучается эволюция представлений о мусульманах в течение XII–XIII вв. Особое внимание уделяется нарративным приемам, с помощью которых средневековые авторы создают образ Другого. Le present livre est consacré à l'analyse des traditions historique, littéraire et iconographique qui ont participé à la formation de l’image des musulmans à l’époque des croisades.

Пьер Видаль-Накэ (род. в 1930 г.) - один из самых крупных французских историков, автор свыше двадцати книг по античной и современной истории. Он стал одним из первых, кто ввел структурный анализ в изучение древнегреческой истории и наглядно показал, что категории воображаемого иногда более весомы, чем иллюзии реальности. `Объект моего исследования, - пишет он, - не миф сам по себе, как часто думают, а миф, находящийся на стыке мышления и общества и, таким образом, помогающий историку их понять и проанализировать`. В качестве центрального объекта исследований историк выбрал проблему перехода во взрослую военную службу афинских и спартанских юношей.

«Палли-палли» переводится с корейского как «Быстро-быстро» или «Давай-давай!», «Поторапливайся!», «Не тормози!», «Come on!». Жители Южной Кореи не только самые активные охотники за трендами, при этом они еще умеют по-настоящему наслаждаться жизнью: получая удовольствие от еды, восхищаясь красотой и… относясь ко всему с иронией. И еще Корея находится в топе стран с самой высокой продолжительностью жизни. Одним словом, у этих ребят, полных бодрости духа и поразительных традиций, есть чему поучиться. Психолог Лилия Илюшина, которая прожила в Южной Корее не один год, не только описывает особенности корейского характера, но и предлагает читателю использовать полезный опыт на практике.