Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма - [4]
Критическая работа с «мифами» продолжается и в следующем публикуемом тексте Брубейкера – статье «Именем нации: размышления о национализме и патриотизме» [9] , где автор обращается к такой важной составляющей семантического пространства национализма, как дискурс патриотизма. Брубейкер исходит из того, что национальное государство, видоизменившись в современных условиях, продолжает существовать как базовая рамка политического опыта. В патриотическом дискурсе он обнаруживает ценную нормативную инклюзивную составляющую, которая позволяет выйти за пределы узконациональной логики, осмыслить социально ориентированное государство, политический режим, основанный на участии всех граждан, и многополярную систему международных отношений. Этот текст задает основания для критического прочтения становящихся популярными рассуждений об отмирании национального государства и о наступлении новой эры империи под видом глобализации, мультикультурализма, супранациональных политий и мирового гегемона, т. е. для очередного пересмотра тезиса о существовании четких хронологических границ между веком наций и веком империй.
Наконец, мы включили в антологию еще один текст Роджерса Брубейкера, который он написал совместно с одним из наиболее оригинальных и влиятельных историков колониализма и империализма, Фредериком Купером. «За пределами „идентичности“» [10] – работа, которая еще не до конца осмыслена современными историками и обществоведами, поскольку покушается на один из относительно новых «мифов», при помощи которых изучают как национализм, так и опыт многонациональных и поликультурных сообществ. Будучи специалистами по «не-западным» обществам Африки и Восточной Европы, Купер и Брубейкер особенно убедительно подрывают представления об универсализме наших категорий анализа и онтологичности природы такого удобного и как бы самоочевидного понятия, как «идентичность». Как и в случае с «Мифами и заблуждениями в изучении национализма», речь идет о критическом взгляде на аналитический язык, который связан с политикой и социальным опытом. Автоматически заимствуя этот язык, исследователи теряют возможность описывать сложные процессы и ситуации различия и разнообразия, происходящие в социальном «неевклидовом пространстве» и не обязательно приводящие к «разноцветной мозаике, состоящей из монохромов» племен, этничностей, наций, культурных или социальных групп.
Публикуемая следом статья французского исследователя Жерара Нуарьеля [11] переносит акцент с концепции «идентичности» на политику идентичности, на практики включений и исключений, когда государство формирует национальное тело, охраняя его чистоту от разного рода мигрантов и социальных чужаков. На материале французской истории Нуарьель ставит вопрос о национальном государстве как модерном интервенционистском институте, классифицирующем население и предлагающем такие формы социального и политического представительства, которые призваны создавать впечатление естественности «нации» и основанной на этом впечатлении политики.
Завершает этот раздел антологии перевод главы из книги лингвиста и ведущего постколониального теоретика, австралийского ученого Билла Ашкрофта [12] . Если «классические» теории национализма рассматривали язык как инструмент формирования и гомогенизации нации, то ранняя постколониальная критика поставила вопрос о языке как о квинтэссенции политики империализма, важнейшем инструменте непрямого политического доминирования. Билл Ашкрофт проводит ревизию этого ортодоксального однонаправленного подхода постколониальных исследований. Анализируя колониальную языковую ситуацию с точки зрения лингвиста, он отказывается от жесткой оппозиции «власть – подчинение» в пользу сложной и нюансированной модели, учитывающей особенности конкретной ситуации коммуникации, механизмов смыслопорождения и способности языка задавать новую культурную дистанцию и переопределять отношения «власть – подчинение». Признавая ситуативность и процессуальность возникновения значения в языковом акте, Ашкрофт утверждает диалогический характер языкового контакта и политического взаимодействия. В модели Билла Ашкрофта российский читатель легко узнает известный по работам московско-тартуской школы семиотический треугольник «автор – художественный текст – читатель» как единую смыслопорождающую систему. Однако Ашкрофт радикально усложняет эту схему, накладывая ее на ситуацию культурного конфликта и политической иерархии, разделяющей автора и читателя в постколониальной ситуации, когда лишь невидимая среда текста/языка выступает в роли медиума, сложно и неоднозначно соединяющего представителей очень разных миров.
Исследования империи в свете критической теории национализма
Этот раздел антологии открывает эссе, написанное по просьбе Ab Imperio известным австрийским историком-русистом Андреасом Каппелером, автором ставшей классической работы «Rußland als Vielvölkerreich: Entstehung, Geschichte, Zerfall» [13] . В русском, не вполне удачном переводе книга вышла под названием «Россия – многонациональная империя: Возникновение, история, распад». Точнее определение Каппелера переводится как «многонародная империя», и эта, казалось бы, сугубо языковая коллизия сразу вводит нас в проблемную зону национальных и имперских штудий. Каппелер видел свою задачу в том, чтобы преодолеть подход к российской истории как истории
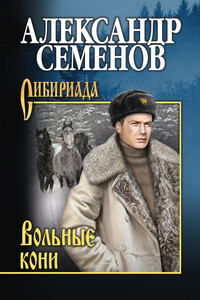
Повести и рассказы известного иркутского писателя Александра Семенова затрагивают такие важные темы, как нравственное понимание мира, гуманизм, обретение веры, любовь к Родине. В образах его героев видны духовная крепость простого народа, его самобытность, стойкость и мужество в периоды испытаний. По словам Валентина Распутина, «настоящая русская литература, кормилица правды и надежды, не собирается сдавать своих позиций и отходить в сторонку. Произведения Александра Семенова еще одно тому доказательство.
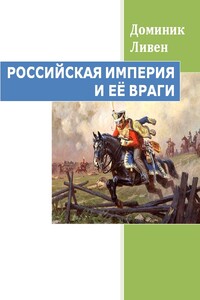
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
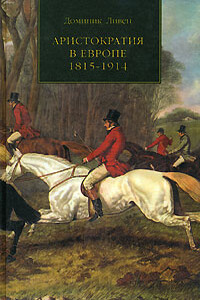
Книга известного английского историка, специалиста по истории России, Д. Ливена посвящена судьбе аристократических кланов трех ведущих европейских стран: России, Великобритании и Германии — в переломный для судеб европейской цивилизации период, в эпоху модернизации и формирования современного индустриального общества. Радикальное изменение уклада жизни и общественной структуры поставило аристократию, прежде безраздельно контролировавшую власть и богатство, перед необходимостью выбора между адаптацией к новым реальностям и конфронтацией с ними.

Изучая различные эпохи российской истории, авторы сборника «Изобретение империи: языки и практики» пытаются ответить на одни и те же вопросы: каким образом, при помощи какого аналитического языка описывалось пространство империи ее современниками? Где находится империя, когда никто ее «не видит»?Что толку в «объективной» реконструкции структурных отношений господства и подчинения или политики территориальной экспансии, если те же самые структуры и такого же рода политику можно найти в любой другой форме политического устройства и во все эпохи?

Насколько применима к российской истории концепция «конфессионального государства»? В каких отношениях оказывается ментальная карта религиозной солидарности и чуждости с конструированием воображаемого пространства политической (или этнокультурной) нации или задачами внешней политики, обусловленной государственными границами? Всегда ли «религиозные традиции» идут рука об руку с мифологемой «национальных корней»? Авторы сборника «Конфессия, империя, нация» ставят эти и многие другие вопросы, рассматривая религиозную и конфессиональную проблематику в контексте истории империи и национализма.
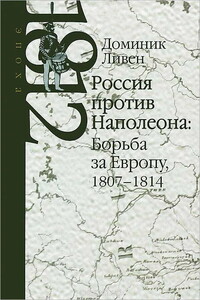
Подход английского историка Д. Ливена разительным образом отличается от оценок, принятых в западной историографии. В большей части трудов западных историков, посвященных борьбе России с Наполеоном, внимание авторов практически всецело сосредоточено на кампании 1812 г., на личности Наполеона, его огромной армии и русской зиме, при этом упускаются из виду действия российского руководства и проводимые им военные операции. Военные операции России в 1813-1814 гг. обычно остаются вне поля зрения.Помимо сражений и маневров автор исследует политические и экономические факторы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Работа Б. Л. Фонкича посвящена критике некоторых появившихся в последние годы исследований греческих и русских документов XVII в., представляющих собой важнейшие источники по истории греческо-русских связей укатанного времени. Эти исследования принадлежат В. Г. Ченцовой и Л. А. Тимошиной, поставившим перед собой задачу пересмотра результатов изучения отношений России и Христианского Востока, полученных русской наукой двух последних столетий. Работы этих авторов основаны прежде всего на палеографическом анализе греческих и (отчасти) русских документов преимущественно московских хранилищ, а также на новом изучении русских документальных материалов по истории просвещения России в XVII в.

В работе изучается до настоящего времени мало исследованная деятельность императора восточной части Римской империи Лициния (308–324 гг.) на начальном этапе исторического перелома: перехода от языческой государственности к христианской, от Античности к Средневековью. Рассмотрены религиозная политика Лициния и две войны с императором Константином I Великим.Книга может быть полезна специалистам, а также широкому кругу читателей.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.

В русскоязычном интернете "Планом Даллеса" обычно называются два довольно коротких текста.1. Фрагмент приписываемых Даллесу высказываний, англоязычный источник которых нигде не указывается.2. Фрагменты директивы Совета Национальной Безопасности США 20/1 от 18 августа 1948 г. Их обычно цитируют по книге Н.Н.Яковлева "ЦРУ против СССР"Первый фрагмент является компоновкой высказываний персонажа из романа "Вечный Зов"Второй фрагмент представляет собой тенденциозно переведенные "фигурные цитаты" из реального документа NSC 20/1.Полюбуйтесь на документ полностью.Взято с www.sakva.ru.