Мей - [2]
Кроме того, было бы неправильно думать, что у Мея совсем нет желанной простоты, поэтической искренности. Он не холоден, свою эмаль он все-таки любит, – не говоря уже о том, что рядом с нею вдруг покажет и какой-нибудь простенький и скромный камешек. Иные из его песен не чисто внешние подделки под народный склад и лад, а говорят о симпатическом отношении автора к народу, о духовном совпадении помыслов и чувств, надежд и суеверий. Кто знает его биографию, те поймут, что не только о чужой тоске, о чужом способе ее целения говорит он в следующей «Песне»:
И не посторонний наблюдатель жизни, не принципиально равнодушный человек так часто устами Мея поет обиду и горе подневольного брачного венца, плен молодой женщины у старого или нелюбимого мужа. А его мало кому известная, но ценная проза, его очерки из народного быта, из элементарного круга вообще, полны тонкой и ласковой наблюдательности, юмора, порою большого человеческого содержания и не последнее занимают место в нашей народнической литературе. Они богаты остроумными и меткими словами, хотя нравственной системы, строгой сосредоточенности мы не найдем и здесь: ослабленно цепляясь неупругими пружинами своей мысли за беспорядочный частокол жизни, без особой необходимости, без энергии переходит Мей от одного явления к другому.
В общем, надо сказать, что все драгоценное и яркое в его экзотических стихотворениях – само по себе, а он – сам по себе: не страстный, не горячий, не всегда готовый для дела и духовности, но простой, добрый, приветливый.
Вот как он представляет себе и непочтительно рисует природу; он знает ее не только в ее благолепности, не только в ее цветниках, «закуренных ладаном ночи». Он непривередлив, нетребователен, и это его сюжетам, а не ему самому нужны пышность, цветы Нерона, пиры Поппеи. Его лично удовлетворит и ландыш, этот «весною опрокинутый стаканчик». Вообще, у него душа – легкая, несопротивляющаяся, и легкими облаками проходили по ней, скользили жизненные впечатления. Оттого он не учитель жизни, непричастен трагизму, но его поверхностность – неоскорбительная, и как, судя по воспоминаниям, лично был он привлекателен, доступен и доверчив, так и в стихотворениях своих он обнаруживает много мило-человеческого. У него – тихая грусть, покорность, надежда на Бога, и вторишь его молитве:
У него – задушевность, элегия, доброе и печальное прощание с жизнью, и так естественно звучит его трогательное обращение:
У Мея есть лиризм и теплота, но только он не навязывает себя, скромен и деликатен; он не придает себе особого значения, не хочет занимать собою. Одним лишь близким, вот этой нежной Юленьке или «моему милому Сашеньке», расскажет он тихие жалобы своего сердца. «Возлюбленные тени» прошлого он будет вспоминать тогда, когда «раскинет ночь мерцающие сени и полы темные небесного шатра». Прощающее сердце, душа, которая все же согрета и обласкана поэзией, Мей знает даже и философские размышления: он может, например, созерцая разнообразные дымы человеческих жилищ, думать о том, что каждый из них индивидуален, что недаром из труб очагов наших в небесную лазурь несутся сожигаемые жизни и «есть глубокий смысл в предании святом, из века в век таинственно хранимом, что весь наш грешный мир очистится огнем и в небесах исчезнет дымом». Только своей философией, как и ничем в себе, писатель не дорожил, и все эти зачатки не получили у него должного развития: мешала внутренняя незаконченность и та лень, на которую он жалуется в прекрасных стихах своей настойчивой секстины. Усталый, унылый, обессиленный трудом литературного поденщика, «неволя мысль цензуре в угожденье» и не имея собственных сил для того, чтобы дурное и злое от себя энергично оттолкнуть, напрасно окликая не только физическую, но и нравственную молодость («Ау-ау! ты, молодость моя! Куда ты спряталась, гремучая змея?»), Мей сиротливой и застенчивой тенью прошел по жизни, по свету (а «белый свет всегда так черен»), – прошел и ушел и, приближаясь к общей пристани, в предсмертной молитве, в предсмертном стихотворении, просил: «Боже, милостив буди мне, грешному»… Своему любимому Гейне пророчил он:

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
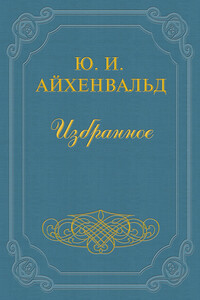
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».
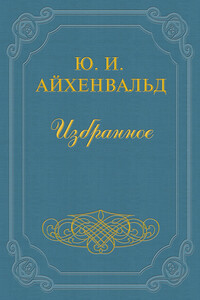
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».
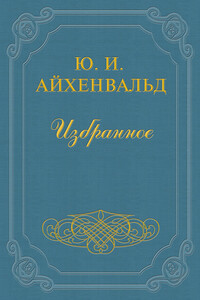
«„Слепой музыкант“ русской литературы, Козлов стал поэтом, когда перед ним, говоря словами Пушкина, „во мгле сокрылся мир земной“. Прикованный к месту и в вечной тьме, он силой духа подавил в себе отчаяние, и то, что в предыдущие годы таилось у него под слоем житейских забот, поэзия потенциальная, теперь осязательно вспыхнуло в его темноте и засветилось как приветливый, тихий, не очень яркий огонек…».

«Одинокое произведение Грибоедова, в рамке одного московского дня изобразившее весь уклад старинной жизни, пестрый калейдоскоп и сутолоку людей, в органической связи с сердечной драмой отдельной личности, – эта комедия с избытком содержания не умирает для нашего общества, и навсегда останется ему близок и дорог тот герой, который перенес великое горе от ума и оскорбленного чувства, но, сильный и страстный, не был сломлен толпою своих мучителей и завещал грядущим поколениям свое пламенное слово, свое негодование и все то же благородное горе…».

«„Герой“ „Божественной Комедии“ – сам Данте. Однако в несчетных книгах, написанных об этой эпопее Средневековья, именно о ее главном герое обычно и не говорится. То есть о Данте Алигьери сказано очень много, но – как об авторе, как о поэте, о политическом деятеле, о человеке, жившем там-то и тогда-то, а не как о герое поэмы. Между тем в „Божественной Комедии“ Данте – то же, что Ахилл в „Илиаде“, что Эней в „Энеиде“, что Вертер в „Страданиях“, что Евгений в „Онегине“, что „я“ в „Подростке“. Есть ли в Ахилле Гомер, мы не знаем; в Энее явно проступает и сам Вергилий; Вертер – часть Гете, как Евгений Онегин – часть Пушкина; а „подросток“, хотя в повести он – „я“ (как в „Божественной Комедии“ Данте тоже – „я“), – лишь в малой степени Достоевский.

«Много писалось о том, как живут в эмиграции бывшие русские сановники, офицеры, общественные деятели, артисты, художники и писатели, но обходилась молчанием небольшая, правда, семья бывших русских дипломатов.За весьма редким исключением обставлены они материально не только не плохо, а, подчас, и совсем хорошо. Но в данном случае не на это желательно обратить внимание, а на то, что дипломаты наши, так же как и до революции, живут замкнуто, не интересуются ничем русским и предпочитают общество иностранцев – своим соотечественникам…».

Как превратить многотомную сагу в графический роман? Почему добро и зло в «Песне льда и огня» так часто меняются местами?Какова роль приквелов в событийных поворотах саги и зачем Мартин создал Дунка и Эгга?Откуда «произошел» Тирион Ланнистер и другие герои «Песни»?На эти и многие другие вопросы отвечают знаменитые писатели и критики, горячие поклонники знаменитой саги – Р. А. САЛЬВАТОРЕ, ДЭНИЕЛ АБРАХАМ, МАЙК КОУЛ, КЭРОЛАЙН СПЕКТОР, – чьи голоса собрал под одной обложкой ДЖЕЙМС ЛАУДЕР, известный редактор и составитель сборников фантастики и фэнтези.

«Одно из литературных мнений Чехова выражено в таких словах: „Между прочим, читаю Гончарова и удивляюсь. Удивляюсь себе: за что я до сих пор считал Гончарова первоклассным писателем? Его Обломов совсем не важная штука. Сам Илья Ильич, утрированная фигура, не так уже крупен, чтобы из-за него стоило писать целую книгу. Обрюзглый лентяи, каких много, натура не сложная, дюжинная, мелкая; возводить сию персону в общественный тип – это дань не по чину. Я спрашиваю себя: если бы Обломов не был лентяем, то чем бы он был? И отвечаю: ничем.

Статья А. Москвина рассказывает о произведениях Жюля Верна, составивших 21-й том 29-томного собрания сочинений: романе «Удивительные приключения дядюшки Антифера» и переработанном сыном писателя романе «Тайна Вильгельма Шторица».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.