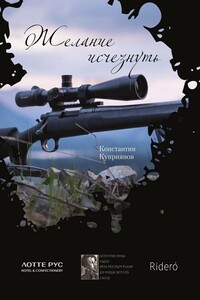Метроленд - [12]
Справа сидел отец. Он только что дочитал «Таймс» и теперь разбирался со своими бумагами с фондовой биржи. На отца я тоже совсем не похож. Во-первых, он совершенно лысый. Я готов допустить, что у нас с ним похожая форма челюсти, но глаза у него другие. У меня они проникновенные и пытливые. А у него… в общем, другие. Время от времени он задавал маме какой-нибудь вопрос про сад. Просто так, для проформы. На самом деле ему это было ни капельки не интересно. Мама сидела слева от меня. Она подавала еду, отвечала на все вопросы и ненавязчиво действовала нам на нервы на протяжении всей молчаливой трапезы. На матушку я тоже не похож. Кое-кто утверждает, что у меня мамины глаза; но даже если это так, то больше во мне нет ничего от мамы.
Я часто задумывался, а родственник ли я им вообще? Н разве я мог удержать в себе эти мысли и не указать родителям на наши столь очевидные различия?
— Мама, а я у вас не приемный? (Вполне нормальный вопрос.)
Слева послышалось слабое шевеление. Братец с сестрой продолжали читать как ни в чем не бывало.
— Нет, конечно. Ты уже съел свой сандвич?
— Ага. Но может быть, есть хоть какая-то вероятность, что меня перепутали в роддоме? — Чтобы пояснить свою мысль, я кивнул в сторону Найджела с Мэри.
Отец тихонько откашлялся, прочищая горло.
— Тебе пора в школу, Кристофер.
Ладно. Вовсе не исключено, что они мне врали.
Для нас с Тони отцовство или материнство было преступлением из разряда особо тяжких. Наличие mens rea[37] было вовсе не обязательным, одного actus reus[38] рождения было вполне достаточно. Рассмотрев все обстоятельства данного дела, равно как и социальное происхождение обвиняемых, мы вынесли следующий приговор: пожизненное условное освобождение преступников на поруки и бессрочные исправительные работы. Что же касается нас самих — жертв, mal-aimés,[39] — мы давно поняли, что независимости и свободы можно достичь лишь последовательным и непреклонным неприятием всяких условностей и ограничений. Камю превзошел всех со своим «Aujourd'hui Maman est morte. Ou peut-être hier».[40] Неуправляемость и отрицание всяческих правил считались священным долгом каждого уважающего себя подростка.
Но на практике все оказалось сложнее, чем мы себе представляли. Весь процесс четко разделялся на два этапа. Первый этап — мы называли его «Выжженная земля» — включал в себя систематическое отрицание, упрямое и сознательное противоречие общепринятым нормам, широкомасштабную уничижительную критику всех и вся с позиций предельного анархизма. В конце концов, мы тоже имели самое непосредственное отношение к поколению «сердитых молодых людей».
— Ты понимаешь, — как-то спросил я у Тони на большой перемене, когда мы поднялись на балкон для шестиклассников и прохлаждались там очень даже неконструктивно, — что мы с тобой тоже из поколения «сердитых молодых людей»?
— Ага, и мне это нравится, хотя и бесит. — Его неизменная кривая улыбочка.
— И что когда мы вырастем и состаримся, наши… племянники и племянницы спросят, что мы с тобой делали в эпоху Великих Сердитых?
— Ну понятное дело: сердились.
— А тебе не кажется, что это какой-то бред, что мы в школе читаем и Осборна, и дремучего Ранкастера? Я имею в виду, тебе не кажется, что все это напоминает некую институционализацию?[41]
— Я так и не понял, что ты имеешь в виду.
— Ну, препятствие бунту интеллигенции посредством попытки присоединить ее к государству.
— И что?
— А то, что я вот сейчас подумал, может быть, настоящий бунтарский поступок это как раз бездействие. Самодовольная самоуспокоенность.
— Все это умствование и схоластика, — хмыкнул Тони. — И полный бред.
Проблема в том, что ему было проще сердиться — у него было больше поводов и причин. Родители Тони (как мы с ним предполагали, частично из-за того, что им пришлось пережить в гетто) были: (а) набожными, (Ь) дисциплинированными, (с) бедными и (d) до безумия любили своего сына, каковая любовь была вся пропитана чувством собственности. Так что Тони, чтобы рассердиться, вовсе не требовалось напрягаться; ему достаточно было просто быть непочтительным сыном, который настаивает на своей независимости от родителей, транжирой, лодырем и раздолбаем, а также ярым агностиком — и вот вам, пожалуйста: сердитый молодой человек как он есть. Когда в прошлом году он случайно сломал дома дверную ручку, отец три недели не давал ему карманных денег. Подобные проявления были весьма полезны в плане поддержания духа сердитого. А у меня все было наоборот. Если я что-то ломал, грубил родителям или упрямился, мои папа с мамой — до неприличия терпимые люди — просто и доходчиво разъясняли мне, почему меня вдруг «понесло». («Это у тебя возрастное, Кристофер. Скоро пройдет».) Меня никогда не ругали. Помню, однажды я практиковался дома, отрабатывая боксерские удары, — сделал обманный выпад, неудачно впилил кулаком в стену и разбил пальцы в кровь. И что сделала моя матушка? Невозмутимо выдала мне йод и бинт.
Разумеется, мы понимали, что «Выжженная земля» еще далеко не все. Проницательные не по годам, мы с Тони как-то сразу прониклись мыслью, что одно только отрицание и неприятие мировоззрения и морали твоих родителей — это не более чем грубая реакция на уровне рефлексов. Точно так же, как богохульство подразумевает наличие веры, всеобъемлющее отрицание запретов подразумевает, что есть некая система ценностей, которая тебя не устраивает, но без которой ты бы не понял, что именно тебе не нравится в жизни. Вот почему мы могли жить с родителями, нисколько не поступаясь принципами. Мы изучали отрицательные примеры.
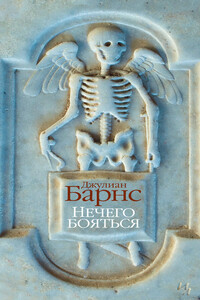
Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс – один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии, автор таких международных бестселлеров, как «Англия, Англия», «Попугай Флобера», «История мира в 10/2 главах», «Любовь и так далее», «Метроленд», и многих других. Возможно, основной его талант – умение легко и естественно играть в своих произведениях стилями и направлениями. Тонкая стилизация и едкая ирония, утонченный лиризм и доходящий до цинизма сарказм, агрессивная жесткость и веселое озорство – Барнсу подвластно все это и многое другое.

«Не просто роман о музыке, но музыкальный роман. История изложена в трех частях, сливающихся, как трезвучие» (The Times).Впервые на русском – новейшее сочинение прославленного Джулиана Барнса, лауреата Букеровской премии, одного из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии, автора таких международных бестселлеров, как «Англия, Англия», «Попугай Флобера», «Любовь и так далее», «Предчувствие конца» и многих других. На этот раз «однозначно самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех мыслимых литературных форм» обращается к жизни Дмитрия Шостаковича, причем в юбилейный год: в сентябре 2016-го весь мир будет отмечать 110 лет со дня рождения великого русского композитора.

Впервые на русском – новейший (опубликован в Британии в феврале 2018 года) роман прославленного Джулиана Барнса, лауреата Букеровской премии, командора Французско го ордена искусств и литературы, одного из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии. «Одна история» – это «проницательный, ювелирными касаниями исполненный анализ того, что происходит в голове и в душе у влюбленного человека» (The Times); это «более глубокое и эффективное исследование темы, уже затронутой Барнсом в „Предчувствии конца“ – романе, за который он наконец получил Букеровскую премию» (The Observer). «У большинства из нас есть наготове только одна история, – пишет Барнс. – Событий происходит бесчисленное множество, о них можно сложить сколько угодно историй.

Впервые на русском — новейший роман, пожалуй, самого яркого и оригинального прозаика современной Британии. Роман, получивший в 2011 году Букеровскую премию — одну из наиболее престижных литературных наград в мире.В класс элитной школы, где учатся Тони Уэбстер и его друзья Колин и Алекс, приходит новенький — Адриан Финн. Неразлучная троица быстро становится четверкой, но Адриан держится наособицу: «Мы вечно прикалывались и очень редко говорили всерьез. А наш новый одноклассник вечно говорил всерьез и очень редко прикалывался».

Казалось бы, что может быть банальнее любовного треугольника? Неужели можно придумать новые ходы, чтобы рассказать об этом? Да, можно, если за дело берется Джулиан Барнс.Оливер, Стюарт и Джил рассказывают произошедшую с ними историю так, как каждый из них ее видел. И у читателя создается стойкое ощущение, что эту историю рассказывают лично ему и он столь давно и близко знаком с персонажами, что они готовы раскрыть перед ним душу и быть предельно откровенными.Каждый из троих уверен, что знает, как все было.

Впервые на русском – новейший роман современного английского классика, «самого изящного стилиста и самого непредсказуемого мастера всех мыслимых литературных форм» (The Scotsman). «„Элизабет Финч“ – куда больше, чем просто роман, – пишет Catholic Herald. – Это еще и философский трактат обо всем на свете».Итак, познакомьтесь с Элизабет Финч. Прослушайте ее курс «Культура и цивилизация». Она изменит ваш взгляд на мир. Для своих студентов-вечерников она служит источником вдохновения, нарушителем спокойствия, «советодательной молнией».
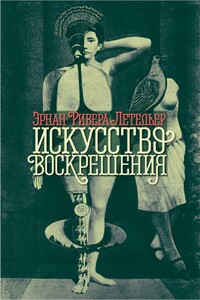
Герой романа «Искусство воскрешения» (2010) — Доминго Сарате Вега, более известный как Христос из Эльки, — «народный святой», проповедник и мистик, один из самых загадочных чилийцев XX века. Провидение приводит его на захудалый прииск Вошка, где обитает легендарная благочестивая блудница Магалена Меркадо. Гротескная и нежная история их отношений, протекающая в сюрреалистичных пейзажах пампы, подобна, по словам критика, первому чуду Христа — «превращению селитры чилийской пустыни в чистое золото слова». Эрнан Ривера Летельер (род.

С Вивиан Картер хватит! Ее достало, что все в школе их маленького городка считают, что мальчишкам из футбольной команды позволено все. Она больше не хочет мириться с сексистскими шутками и домогательствами в коридорах. Но больше всего ей надоело подчиняться глупым и бессмысленным правилам. Вдохновившись бунтарской юностью своей мамы, Вивиан создает феминистские брошюры и анонимно распространяет их среди учеников школы. То, что задумывалось просто как способ выпустить пар, неожиданно находит отклик у многих девчонок в школе.

Эта книга о жизни, о том, с чем мы сталкиваемся каждый день. Лаконичные рассказы о радостях и печалях, встречах и расставаниях, любви и ненависти, дружбе и предательстве, вере и неверии, безрассудстве и расчетливости, жизни и смерти. Каждый рассказ заставит читателя задуматься и сделать вывод. Рассказы не имеют ограничения по возрасту.

«Шиза. История одной клички» — дебют в качестве прозаика поэта Юлии Нифонтовой. Героиня повести — студентка художественного училища Янка обнаруживает в себе грозный мистический дар. Это знание, отягощённое неразделённой любовью, выбрасывает её за грань реальности. Янка переживает разнообразные жизненные перипетии и оказывается перед проблемой нравственного выбора.

Удивительная завораживающая и драматическая история одной семьи: бабушки, матери, отца, взрослой дочери, старшего сына и маленького мальчика. Все эти люди живут в подвале, лица взрослых изуродованы огнем при пожаре. А дочь и вовсе носит маску, чтобы скрыть черты, способные вызывать ужас даже у родных. Запертая в подвале семья вроде бы по-своему счастлива, но жизнь их отравляет тайна, которую взрослые хранят уже много лет. Постепенно у мальчика пробуждается желание выбраться из подвала, увидеть жизнь снаружи, тот огромный мир, где живут светлячки, о которых он знает из книг.