Мертвое «да» - [71]
Выбирайте — что ближе и дороже, ибо — равноценны. Острее — чистые, глубже — вечные. Товарищеский совет: подчеркните (либо чистые, либо вечные) чтобы еще, ещeе ударить — и пометку: прошу подчеркнутое слово — в разрядку. Чтобы не набрали жирным шрифтом, который нечто вроде физического воздействия, тогда как в разрядку — воздействие нравственное: молчаливая остановка внимания.
Тогда физически вид будет таков:
Шестидесятые ч и с т ы е годы
— смотрите, как хорошо.
А — русские — они всё равно — русские, не-русских (таких) не было, и если русские — не выходит противовеса ерунде. Говорю Вам как себе, собственности на слова нет, и — равно как в вопросе нашей встречи — не будем считаться копейками, которые (копейки или слова) нам все равно не принадлежат (вот — зажигалка моя мне принадлежала — верней: я — ей — когда меня прожигала), не будем этими малостями мешать возникновению вещи — встречи или стихотворения, — но третьего, которое больше нас.
Возвращаясь к первой транскрипции:
Ваша (да еще нарочитая) confusion [путаница — фр.] — словесных штампов — и простых обиходных выражений — и бессмертных понятий — больше, чем неудачная — невозможная. Вы хотите быть понятым вопреки себе, вопреки знакам, и смыслу слов, — a rebours [наоборот, навыворот — фр.]. Это можно только в любви, в дружбе — нельзя. Не можете же Вы рассчитывать на точь-в-точь такого же как Вы (чего и в любви не бывает), даже не на близнеца: на двойника. Лучший читатель — только абсолютный друг, а абсолютный читатель — только любящий, т. е. все равно — другой, непременно — другой: для того и другой — чтобы любить. (Себя не любят.)
Если я усумнилась, то что же будет — с любым, с первым встречным?
— Я не для него пишу. — Нет, здесь — для него и о нем, ибо кто же лежит в больнице, сидит в тюрьме и т. д., как не Ваш первый встречный читатель — и подзащитный? Но — его защищая и о нем вопия — делайте это так, чтобы он первый Вас понял, чтобы он, по крайней мере, Вас — понял: ведь это — тоже помощь! (Память.) (Как одна меня безумно любившая молодая женщина — смертельно-больная и совершенно-нищая — мне — из своих далёких: со своих высоких — Пиренеи: — Марина! Я не могу вернуть Вам чешского иждивения, я не могу послать Вам ни франка, но я изо всех сил — из моих последних сил, Марина, — не-престанно, день и ночь о Вас думаю.[144])
Что же Вы, со своим безымянным подзащитным, своими кавычками — делаете?
Простой умирающий (русский шофёр в госпитале — а сколько их — госпиталей и шофёров!) Ваши стихи примет как последний плевок на голову (с бельведера Вашего поэтического величия). — Стоило жить!
Нет, друг, оставьте темноты — для любви. Для защиты — нужна прямая речь. Да — да, нет — нет, а что больше — есть от лукавого.
Вы приводите строки Г. Иванова: Хорошо, что нет Царя — Хорошо, что нет России[145]. — Если стихи (я их не помню) сводятся к тому, что хорошо, что нет ничего — они сразу — понятны, — первому встречному понятны, ибо имеют только один смысл: о т ч а я н и я.
Эти стихи какого-то древнейшего греческого поэта — мы все писали.
Нет, друг, защита, как нападение, должна быть прямая, это из мужских чувств, это не чувство — а acte [действие — фр.]. (И Ваши эти стихи — acte), а acte не может иметь двух смыслов — иначе Вы сами не обрадуетесь — какие у Вас окажутся единомышленники, и иначе сама Cause и Chose [причина и вещь — фр.] от Вас отвернется: своего защитника не узнает.
Тут умственные — словесные — и даже самые кровоточащие игры — неуместны. Направляя нож в себя. Вы сквозь себя — проскакиваете — и попадаете в То, за что… (готовы умереть). Нельзя.
<…>
23
Chateaud’Arcine, 12-го сентября 1936 г., суббота (мой любимый день — и день моего рождения: с субботы на воскресенье в полночь. Мать выбрала субботу, т. е. назад).
<…>
О роде Вашего поэтического дара — в другой раз. Пока же — скажу: у Вас аскетический дар. Служебный. Затворнический.
Бог Вам дал дар и — к нему — затвор.
<…>
26
<…>
Chateaud’Arcine, 15-го сентября 1936 г. — вторник — чердак — под шум потока
О Вашем Париже — жалею. Там — сгорите. Париж, после Праги, худший город по туберкулезу — в нем заболевают и здоровые — а больные в нем умирают — Вы это знаете.
Ницца для туберкулеза — после гор — вредна. Жара — вредна. Раньше, леча ею — убивали. Так убили и мою мать, но может быть она счастливее, что тогда — умерла.
Может быть Вы — внутри, — больнее чем я думала и верила — хотела видеть и верить? Ибо ждать от Адамовича откровения в третьем часу утра — кем же и чем же нужно быть? До чего — не быть!
Если Вы — поэтический Монпарнас — зачем я Вам? От видения Вас среди — да все равно среди кого — я — отвращаюсь. Но и это — ничего: чем меньше нужна Вам буду — я (а я не нужна — когда нужно такое: Монпарнас меня исключает) тем меньше нужны мне будете — Вы, у меня иначе не бывает и не может быть: даже с собственными детьми: так случилось с Алей — и невозвратно. Она без меня блистательно обошлась — и этим выбрала — и выбыла. И только жалость осталась (на всякий случай) — и помощь (во всяком) — и добрые пожелания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.
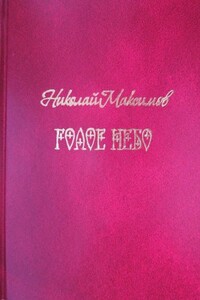
Стихи безвременно ушедшего Николая Михайловича Максимова (1903–1928) продолжают акмеистическую линию русской поэзии Серебряного века.Очередная книга серии включает в полном объеме единственный сборник поэта «Стихи» (Л., 1929) и малотиражную (100 экз.) книгу «Памяти Н. М. Максимова» (Л., 1932).Орфография и пунктуация приведены в соответствие с нормами современного русского языка.

Лидия Давыдовна Червинская (1906, по др. сведениям 1907-1988) была, наряду с Анатолием Штейгером, яркой представительницей «парижской ноты» в эмигрантской поэзии. Ей удалось очень тонко, пронзительно и честно передать атмосферу русского Монпарнаса, трагическое мироощущение «незамеченного поколения».В настоящее издание в полном объеме вошли все три прижизненных сборника стихов Л. Червинской («Приближения», 1934; «Рассветы», 1937; «Двенадцать месяцев» 1956), проза, заметки и рецензии, а также многочисленные отзывы современников о ее творчестве.Примечания:1.

Вере Сергеевне Булич (1898–1954), поэтессе первой волны эмиграции, пришлось прожить всю свою взрослую жизнь в Финляндии. Известность ей принес уже первый сборник «Маятник» (Гельсингфорс, 1934), за которым последовали еще три: «Пленный ветер» (Таллинн, 1938), «Бурелом» (Хельсинки, 1947) и «Ветви» (Париж, 1954).Все они полностью вошли в настоящее издание.Дополнительно републикуются переводы В. Булич, ее статьи из «Журнала Содружества», а также рецензии на сборники поэтессы.
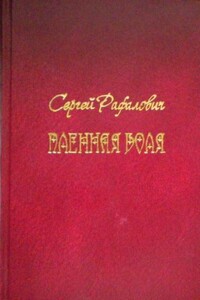
Сергей Львович Рафалович (1875–1944) опубликовал за свою жизнь столько книг, прежде всего поэтических, что всякий раз пишущие о нем критики и мемуаристы путались, начиная вести хронологический отсчет.По справедливому замечанию М. Л. Гаспарова. Рафалович был «автором стихов, уверенно поспевавших за модой». В самом деле, испытывая близость к поэтам-символистам, он охотно печатался рядом с акмеистами, писал интересные статьи о русском футуризме. Тем не менее, несмотря на обилие поэтической продукции, из которой можно отобрать сборник хороших, тонких, мастерски исполненных вещей, Рафалович не вошел практически ни в одну антологию Серебряного века и Русского Зарубежья.