Мертвое «да» - [28]
Стал отходить «Владимир». Толпа бросилась на него. Вдруг близко послышались выстрелы. Это стреляли с «Владимира»! С дикими воплями все бросились от него. Выстрелы были холостые, но один звук их увеличил и без того неописуемую панику. «Владимир» ушел в море.
Мы остались одни во власти слухов. Говорили, что еще подадут пароходы, что спасут всех. Никто никому не верил. С тупым, безнадежным видом люди слонялись по снегу или заходили греться в холодные склады. Всюду валялись горы брошенных чемоданов и корзин. Их никто не трогал. Они никому больше не были нужны. Над молом стоял страшный призрак смерти. Я вернулся в склад. Все были в ужасном, подавленном состоянии. Ни сестра [милосердия], ни горничная не могли больше пробраться в город. Графиня очень беспокоилась, она ушла из дому, не предупредив мужа. В большой холодной пустой комнате было много народу. Некоторые, расположившись на своих вещах, закусывали. В углу на полу, на шинелях, один около другого лежали тифозные. Сюда же приносили легко раненых из порта. Молодая сестра милосердия вместе с санитаром с трудом внесли офицера, раненого в грудь. Через час он скончался и его вынесли из склада…
Узнав нашу фамилию, старушка-сторожиха позвала нас погреться к себе. Она знала моего дядю, служившего в Добровольческом флоте. Было тепло и уютно. В маленькой комнате, жарко натопленной, мы смогли снять шубы и немного прийти в себя. Темнело. Выстрелы не прекращались. На рейде мелькали огоньки ушедших судов. Все устали от волнения и ужасов. Медленно ползли часы. Все знали, что у героев, отстаивающих нас, снарядов хватит только на несколько часов. Ночью должны ворваться большевики и перебить всех нас. От этой мысли холод пробегал по коже. Моя мать, почти без чувств, лежала на корзине. Графиня и фрейлейн хлопотали около нее.
В восемь часов внезапно раздалась какая-то тревога. «Большевики!» — вскрикнула дико какая-то дама и упала на пол. Все вскочили со своих мест, давя друг друга. Началась страшная паника. К счастью, все объяснилось очень просто. Полковник Стессель и Мамонтов предлагали желающим идти с ними, пробиваться в Румынию. Тут же вертелась жалкая фигура Шульгина, добровольно ездившего в Могилев вынудить у Государя отречение. Некоторые присоединились к ним. Моя мать умоляла отца идти в Румынию. «А как же ты? — спросил он. — Дети не могут идти! Мы остаемся». Отец ни за что не соглашался бросить семью. Мать плакала и молила его идти. К счастью, отец не согласился. Большинство пошедших было перебито большевиками, замерзло в пути или было выдано румынами большевикам. Только некоторым из них удалось спастись.
Склад и дорожка стали свободнее, но все-таки на молу оставалось не меньше двух тысяч человек. Большинство было женщин, раненых, тифозных и детей. Паника вспыхивала по каждому ничтожному поводу. Плач, крики, стоны и бред больных не прекращались ни на минуту. Ночь шла. Никто не знал, сколько может продлиться этот кошмар.
Ровно в 12 часов дверь сильно распахнулась. На пороге стоял английский офицер. «Женщины и дети мной! — скомандовал он. — Без вещей!» Поднялась суматоха. Моя мать с каменным выражением сидела, двигаясь с места. Теперь наступила очередь отца умолять ее ехать. Офицер подошел к ней, предлагая ехать. «Не поеду, — твердо ответила она, — без мужа я не двинусь с места!». Англичанин толкнул отца к выходу. Это означало разрешение ехать. Все бросились за ним. Никто не думал о вещах. Они все остались на произвол судьбы. Сестры выбежали без шляп. На сборы не было дано ни одной минуты.
Мы вышли на воздух. Выстрелы не прекращались. Толпа, как лавина, катилась к краю мола, где стоял пришедший за нами ледокол. Люди давили друг друга. Меня кто-то сильно толкнул, и я упал на брошенные проволочные заграждения, впившиеся в мою шубу. Я начал кричать, не имея силы высвободиться одному. Мой ужас увеличивала темнота, изредка прорезаемая щупальцами прожекторов. Какой-то матрос протянул мне руку и я, оставив полшубы в проволоке, присоединился к своим. К ледоколу, могущему взять не больше ста — ста двадцати человек, вела узкая, шириной в пол-аршина доска. Ледокол не мог пристать к берегу. Идти было очень трудно. Узкий, обледенелый трап без перил. У меня дух захватило, когда я вступил на него. Внизу была холодная, ледяная вода. «Торопитесь!» Я перебежал трап. Скоро там соединилась вся наша семья. С нами прибежали графиня и горничная, неся кое-какие веши. Они думали, что принесли чемоданы с серебром. Велико было разочарование, когда там оказались летние платья. Все серебро, старинные вещи, картины, платье и белье были брошены. На берегу остались 22 сундука. Мы были нищие, но об этом никто не думал. Мы были рады, что удалось спастись. Графиня и горничная, наскоро с нами простившись и пожелав счастливого пути, двинулись к трапу обратно. Дорогу им преградил солдат с винтовкой. «Приказано никого не спускать на берег!» Они попытались объяснить, что пришли только проводить знакомых, что не намерены ехать за границу, что в Одессе у них остались семьи… Солдат ничего не слушал и твердил, что это не его дело. Обе бросились к капитану ледокола. Он успокоил их, пообещав, когда выгрузит беженцев и поедет за следующей партией, спустить их на берег.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
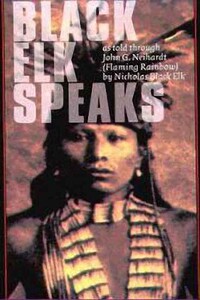
Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Лидия Давыдовна Червинская (1906, по др. сведениям 1907-1988) была, наряду с Анатолием Штейгером, яркой представительницей «парижской ноты» в эмигрантской поэзии. Ей удалось очень тонко, пронзительно и честно передать атмосферу русского Монпарнаса, трагическое мироощущение «незамеченного поколения».В настоящее издание в полном объеме вошли все три прижизненных сборника стихов Л. Червинской («Приближения», 1934; «Рассветы», 1937; «Двенадцать месяцев» 1956), проза, заметки и рецензии, а также многочисленные отзывы современников о ее творчестве.Примечания:1.

Филарет Иванович Чернов (1878–1940) — талантливый поэт-самоучка, лучшие свои произведения создавший на рубеже 10-20-х гг. прошлого века. Ему так и не удалось напечатать книгу стихов, хотя они публиковались во многих популярных журналах того времени: «Вестник Европы», «Русское богатство», «Нива», «Огонек», «Живописное обозрение», «Новый Сатирикон»…После революции Ф. Чернов изредка печатался в советской периодике, работал внештатным литконсультантом. Умер в психиатрической больнице.Настоящий сборник — первое серьезное знакомство современного читателя с философской и пейзажной лирикой поэта.

Вере Сергеевне Булич (1898–1954), поэтессе первой волны эмиграции, пришлось прожить всю свою взрослую жизнь в Финляндии. Известность ей принес уже первый сборник «Маятник» (Гельсингфорс, 1934), за которым последовали еще три: «Пленный ветер» (Таллинн, 1938), «Бурелом» (Хельсинки, 1947) и «Ветви» (Париж, 1954).Все они полностью вошли в настоящее издание.Дополнительно републикуются переводы В. Булич, ее статьи из «Журнала Содружества», а также рецензии на сборники поэтессы.
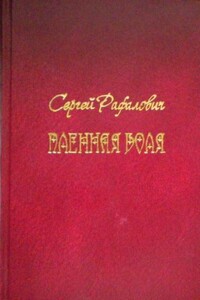
Сергей Львович Рафалович (1875–1944) опубликовал за свою жизнь столько книг, прежде всего поэтических, что всякий раз пишущие о нем критики и мемуаристы путались, начиная вести хронологический отсчет.По справедливому замечанию М. Л. Гаспарова. Рафалович был «автором стихов, уверенно поспевавших за модой». В самом деле, испытывая близость к поэтам-символистам, он охотно печатался рядом с акмеистами, писал интересные статьи о русском футуризме. Тем не менее, несмотря на обилие поэтической продукции, из которой можно отобрать сборник хороших, тонких, мастерски исполненных вещей, Рафалович не вошел практически ни в одну антологию Серебряного века и Русского Зарубежья.