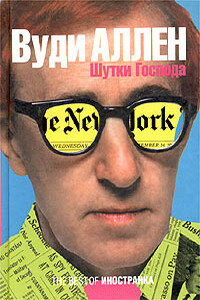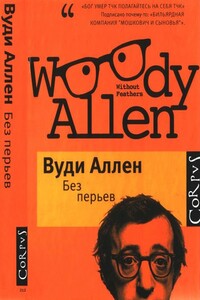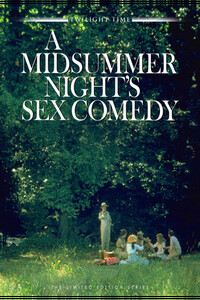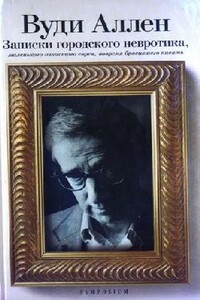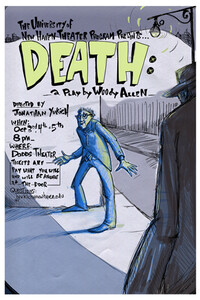Уже в самом конце войны мне пришлось приходить в бункер Гитлера. Армии Союзников приближались к Берлину, и Гитлер чувствовал, что если русские придут первыми, ему придется обриться наголо, если же первыми окажутся американцы, то достаточно будет просто слегка подравнять волосы. Вокруг все нервничали, переругивались. В самый разгар общей ссоры Борманн вдруг захотел побриться, и я пообещал выкроить для него местечко в моем графике. Фюрер все больше мрачнел, замыкался в себе. По временам он заговаривал о том, чтобы устроить себе пробор от уха до уха, или о том, что, ускорив создание электрической бритвы, он сможет переломить ход войны в пользу Германии. «Мы будем тратить на бритье не больше нескольких секунд, не так ли, Шмид?» — бормотал он. Упоминал он и о других безумных планах, а однажды заявил, что подумывает когда-нибудь не просто постричься, но сделать красивую прическу. Со всегдашним его стремлением к монументальности, Гитлер клялся, что рано или поздно соорудит на своей голове такой «помпадур», от которого «содрогнется мир, и для укладки которого потребуется почетный караул». На прощание мы обменялись рукопожатиями и я в последний раз подровнял ему волосы. Фюрер дал мне пфенинг на чай. «С радостью дал бы больше, — сказал он, — но после того, как Союзники завладели Европой, я несколько стеснен в средствах».