Мемуарная проза - [119]
Свою жизнь, свою бабушку, свое детство, свою «глупость»… Свои белые ночи.
Сонечку знал весь город. На Сонечку — ходили. Ходили — на Сонечку. «А вы видали? Такая маленькая, в белом платьице, с косами… Ну, прелесть!» Имени ее никто не знал: «такая маленькая…»
«Белые ночи» были — событие.
Спектакль был составной, трехгранный. Первое: Тургенев, «История лейтенанта Ергунова»: молодая чертовка, морока, где-то в слободской трущобе завораживающая, обморачивающая молодого лейтенанта. После всех обещаний и обольщений исчезающая — как дым. С его кошельком. Помню, в самом начале она его ждет, наводит красоту — на себя и жилище. Посреди огромного сарая — туфля. Одинокая, стоптанная. И вот — размахом ноги — через всю сцену. Навела красоту!
Но это — не Сонечка. Это к Сонечке — введение.
Второе? Мне кажется — что-то морское, что-то портовое, матросское, — может быть, Мопассан: брат и сестра? Исчезло.
А третье — занавес раздвигается: стул. И за стулом, держась за спинку — Сонечка. И вот рассказывает, робея и улыбаясь, про бабушку, про жильца, про бедную их жизнь, про девичью свою любовь. Так же робея и улыбаясь и сверкая глазами и слезами, как у меня в Борисоглебском рассказывая об Юрочке — или об Евгении Багратионовиче, — так же не играя или так же всерьез, насмерть играя, а больше всего играя — концами кос, кстати никогда не перевязанных лентами, самоперевязанных, самоперекрученных природно, или прядями у висков играя, отстраняя их от ресниц, забавляя ими руки, когда те скучали от стула. Вот эти концы кос и пряди у висков — вся и Сонечкина игра.
Думаю, что даже платьице на ней было не театральное, не нарочное, а собственное, летнее, — шестнадцатилетнее, может быть?
— Ходил на спектакль Второй студии. Видал вашу Сонечку…
Так она для всех сразу и стала моей Сонечкой, — такая же моя, как мои серебряные кольца и браслеты — или передник с монистами — которых никому в голову не могло прийти у меня оспаривать — за никому, кроме меня, не-нужностью.
Здесь уместно будет сказать, потому что потом это встанет вживе, что я к Сонечке сразу отнеслась еще и как к любимой вещи, подарку, с тем чувством радостной собственности, которого у меня ни до, ни после к человеку не было — никогда, к любимым вещам — всегда. Даже не как к любимой книге, а именно — как кольцу, наконец, попавшему на нужную руку, вопиюще — моему, еще в том кургане — моему, у того цыгана — моему, кольцу так же мне радующемуся, как я — ему, так же за меня держащемуся, как я за него — самодержащемуся, неотъемлемому. Или уж — вместе с пальцем! Отношения этим не исчерпываю: плюс вся любовь, только мыслимая, еще и это.
Еще одно: меня почему-то задевало, раздражало, оскорбляло, когда о ней говорили Софья Евгеньевна (точно она взрослая!), или просто Голлидэй (точно она мужчина!), или даже Соня — точно на Сонечку не могут разориться! — я в этом видела равнодушие и даже бездушие. И даже бездарность. Неужели они (они и оне) не понимают, что она — именно Сонечка, что иначе о ней — грубость, что ее нельзя — не ласкательно. Из-за того, что Павлик о ней говорил Голлидэй (начав с Инфанты!), я к нему охладела. Ибо не только Сонечку, а вообще любую женщину (которая не общественный деятель) звать за глаза по фамилии — фамильярность, злоупотребление отсутствием, снижение, обращение ее в мужчину, звать же за глаза — ее детским именем — признак близости и нежности, не могущий задеть материнского чувства — даже императрицы. (Смешно? Я была на два, на три года старше Сонечки, а обижалась за нее — как мать.)
Нет, все любившие меня: читавшие во мне называли ее мне — Сонечка. С почтительным добавлением — ваша.
Но пока она еще стоит перед нами, взявшись за спинку стула, настоим здесь на ее внешности — во избежание недоразумений:
На поверхностный взгляд она, со своими ресницами и косами, со всем своим алым и каштановым, могла показаться хохлушкой, малороссияночкой. Но — только на поверхностный: ничего типичного, национального в этом личике не было—слишком тонка была работа лица: работа — мастера. Еще скажу: в этом лице было что-то от раковины — так раковину работает океан — от раковинного завитка: и загиб ноздрей, и выгиб губ, и общий завиток ресниц — и ушко! — все было резное, точеное — и одновременно льющееся — точно эту вещь работали и ею же — играли: не только Океан работал, но и волна — играла. Je n’ai jamais vu de perle rose, maisje soutient que son visage était plus perle et plus rose.[164]
__________
Как она пришла? Когда? Зимой ее в моей жизни не было. Значит — весной. Весной 1919 года, и не самой ранней, а вернее — апрельской, потому что с нею у меня связаны уже оперенные тополя перед домом. В пору первых зеленых листиков.
Первое ее видение у меня — на диване, поджав ноги, еще без света, с еще — зарей в окне, и первое ее слово в моих ушах — жалоба:
— Как я вас тогда испугалась! Как я боялась, что вы его у меня отымете! Потому что не полюбить — вас, Марина, не полюбить вас — на коленях — немыслимо, несбыточно, просто (удивленные глаза) — глупо? Потому я к вам так долго и не шла, потому что знала, что вас так полюблю, вас, которую любит он, из-за которой он меня не любит, и не знала, что мне делать с этой своей любовью, потому что я вас уже любила, с первой минуты тогда, на сцене, когда вы только опустили глаза — читать. А потом — о, какой нож в сердце! какой нож! — когда он к вам последний подошел, и вы с ним рядом стояли на краю сцены, отгородившись от всего, одни, и он вам что-то тихонько говорил, а вы так и не подняли глаз, — так что он совсем в вас говорил… Я, Марина, правда не хотела вас любить! А теперь — мне все равно, потому что теперь для меня его нет, есть вы, Марина, и теперь я сама вижу, что он не мог вас любить, потому что — если бы мог вас любить — он бы не репетировал без конца «Святого Антония», а Святым Антонием бы — был, или не Антонием, а вообще святым…

`Вся моя проза – автобиографическая`, – писала Цветаева. И еще: `Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком`. Написанное М.Цветаевой в прозе отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

Знаменитый детский психолог Ю. Б. Гиппенрейтер на своих семинарах часто рекомендует книги по психологии воспитания. Общее у этих книг то, что их авторы – яркие и талантливые люди, наши современники и признанные классики ХХ века. Серия «Библиотека Ю. Гиппенрейтер» – и есть те книги из бесценного списка Юлии Борисовны, важные и актуальные для каждого родителя.Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) – русский поэт, прозаик, переводчик, одна из самых самобытных поэтов Серебряного века.С необыкновенной художественной силой Марина Цветаева описывает свои детские годы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть посвящена памяти актрисы и чтицы Софьи Евгеньевны Голлидэй (1894—1934), с которой Цветаева была дружна с конца 1918 по весну 1919 года. Тогда же она посвятила ей цикл стихотворений, написала для неё роли в пьесах «Фортуна», «Приключение», «каменный Ангел», «Феникс». .

«… В красной комнате был тайный шкаф.Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери – «Дуэль».Снег, черные прутья деревец, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к саням – а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый – Пушкин, отходящий – Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистных деревец, убил.Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета ...».
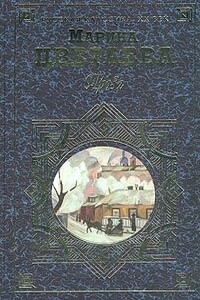
«Вся моя проза – автобиографическая», – писала Цветаева. И еще: «Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком». Написанное М.Цветаевой в прозе – от собственной хроники роковых дней России до прозрачного эссе «Мой Пушкин» – отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

В последние годы почти все публикации, посвященные Максиму Горькому, касаются политических аспектов его биографии. Некоторые решения, принятые писателем в последние годы его жизни: поддержка сталинской культурной политики или оправдание лагерей, которые он считал местом исправления для преступников, – радикальным образом повлияли на оценку его творчества. Для того чтобы понять причины неоднозначных решений, принятых писателем в конце жизни, необходимо еще раз рассмотреть его политическую биографию – от первых революционных кружков и участия в революции 1905 года до создания Каприйской школы.

Книга «Школа штурмующих небо» — это документальный очерк о пятидесятилетнем пути Ейского военного училища. Ее страницы прежде всего посвящены младшему поколению воинов-авиаторов и всем тем, кто любит небо. В ней рассказывается о том, как военные летные кадры совершенствуют свое мастерство, готовятся с достоинством и честью защищать любимую Родину, завоевания Великого Октября.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.