Мелодия Чайковского - [2]
— Ну ты, это, елки-моталки, чего городишь-то? — уже не очень бодро, но все еще с энтузиазмом говорит Павлуша. Он, Павлуша, от природы румян, круглолиц и очень разговорчив. Умеет на гармошке и балалайке играть, музыку любит, а я конопат, скуласт, язвителен, играть ни на чем не умею. У Павлуши больше оснований жить и выжить на войне, чем у меня, Павлуша, может быть, более полезен и нужен обществу, я же осатанел, грудь вот кашлем рвет, ангина горло свела, даже слюну проглотить не дает.
Павлуша жил до самой до войны в красивом хлебном селе среди гор, покрытых по самым горбинам мохнатым кедрачом. Реки, где он рос, харюзные, тайменные, ореха, зверя, птицы в лесах тучи. Пусть и до зернышка выметет родная и любимая власть, все одно не пропадешь в алтайском селе, где по огородам арбузы растут, при впадении родной речки в Катунь острова пользительной ягодой облепихой заросли. Мое родное село тоже многого стоит, природа посуровей алтайской, землицы среди скал скудно освоено, но река, тайга под боком, да рано меня сорвало и вынесло из родного села, и понесло, и закружило в водовороте жизни.
Детство в нужде, страхе и ожидании обещанного счастья прошло, юность в борьбе за место на земле незаметно пролетела в общагах, бараках, каких-то зимовках, навозом, хомутами и гнилыми опилками пахнущих, теперь здесь вот в всеми дождями промываемых, всеми ветрами продуваемых окопах проходит молодость. Даже одежонку просушить негде и нечем, одно желание подступает все плотнее — пропасть, сдохнуть поскорее.
— Да ты чё? — почти возмущенно кричит Павлуша. — Нам по девятнадцать лет, нам еще жить да жить, елки-моталки…
— Вот и живи, раз охота.
Павлуша обезоруженно и обескураженно умолк. Иногда ему удавалось справиться со мной, на путь истинный меня наставить, довоспитать, но сейчас он бессилен, совсем бессилен и далеко от меня, за этой непроглядной пеленой, полого и низко плывущей над землей.
— Слушай! — кричит Павлуша. — Вот слушай!
И я вдруг слышу музыку, с другого света, с другой планеты, с другого неба плывущую, прекрасную музыку, торжественную, разуму недоступную, поющую о другой какой-то жизни, мне неведомой, пробуждающейся под ясным небом, под светлыми звездами.
Павлуша включил рацию, нажал на клапан телефона, дает мне послушать то удаляющуюся, то наплывающую на меня музыку. Я хочу спросить, откуда, чья эта музыка, но лицо мое грязное, шершавое от стыни заливают такие потоки слез, что я не успеваю их, затекающие в рот, соленые и горькие, проглатывать, и они текут, рушатся на шинель, глухо застегнутую на моей груди. На время куда-то пропал кашель, лишь, как на немазаных шестернях, скрипит, рвется дыхание в груди.
«Кто украл мое детство? Кто съел мою юность? Кто гробит и гложет мою молодость?» — захлебываясь слезами, спрашиваю я, неведомо к кому обращаясь. Мне жалко себя, своей жизни, а это уже пробуждение. Где-то ж она есть? Где-то ж она вот звучит? Где-то ж она живет? И значит, вместе с нею живут прекрасные люди прекрасной жизнью.
А музыку Павлуша нашел, нащупал для меня в пространстве, и он не знал, какую, чью, и я тогда тоже не знал, откуда, чья она?
Чайковского Петра Ильича была та музыка, впоследствии узнал я, финал первого действия «Лебединого озера». Приобретя пластинку, я заезжу до дыр то место, где про воскресение, про другой, прекрасный мир, светлым сиянием спускающийся с небес над родной землей, над всеми нами, все вытерпевшими и перестрадавшими.
>30 марта 2000.
>Больница.

Рассказ о мальчике, который заблудился в тайге и нашёл богатое рыбой озеро, названное потом его именем.«Это озеро не отыщешь на карте. Небольшое оно. Небольшое, зато памятное для Васютки. Еще бы! Мала ли честь для тринадцатилетнего мальчишки — озеро, названное его именем! Пускай оно и не велико, не то что, скажем, Байкал, но Васютка сам нашел его и людям показал. Да, да, не удивляйтесь и не думайте, что все озера уже известны и что у каждого есть свое название. Много еще, очень много в нашей стране безымянных озер и речек, потому что велика наша Родина и, сколько по ней ни броди, все будешь находить что-нибудь новое, интересное…».

1942 год. В полк прибыли новобранцы: силач Коля Рындин, блатной Зеленцов, своевольный Леха Булдаков, симулянт Петька. Холод, голод, муштра и жестокость командира – вот что ждет их. На их глазах офицер расстреливает ни в чем не повинных братьев Снигиревых… Но на фронте толпа мальчишек постепенно превращается в солдатское братство, где все связаны, где каждый готов поделиться с соседом последней краюхой, последним патроном. Какая же судьба их ждет?
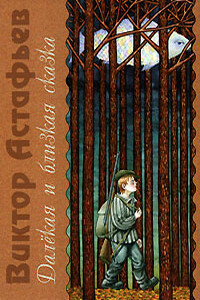
Рассказ опубликован в сборнике «Далекая и близкая сказка».Книга классика отечественной литературы адресована подрастающему поколению. В сборник вошли рассказы для детей и юношества, написанные автором в разные годы и в основном вошедшие в главную книгу его творчества «Последний поклон». Как пишет в предисловии Валентин Курбатов, друг и исследователь творчества Виктора Астафьева, «…он всегда писал один „Последний поклон“, собирал в нем семью, которой был обойден в сиротском детстве, сзывал не только дедушку-бабушку, но и всех близких и дальних, родных и соседей, всех девчонок и мальчишек, все игры, все малые радости и немалые печали и, кажется, все цветы и травы, деревья и реки, всех ласточек и зорянок, а с ними и всю Родину, которая есть главная семья человека, его свет и спасение.

Рассказы «Капалуха» и «Весенний остров» о суровой северной природе и людям Сибири. Художник Татьяна Васильевна Соловьёва.
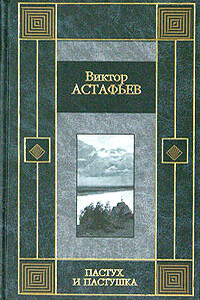
Виктор Астафьев (1924—2001) впервые разрушил сложившиеся в советское время каноны изображения войны, сказав о ней жестокую правду и утверждая право автора-фронтовика на память о «своей» войне.Включенные в сборник произведения объединяет вечная тема: противостояние созидательной силы любви и разрушительной стихии войны. «Пастух и пастушка» — любимое детище Виктора Астафьева — по сей день остается загадкой, как для критиков, так и для читателей, ибо заключенное в «современной пасторали» время — от века Манон Леско до наших дней — проникает дальше, в неведомые пространственные измерения...
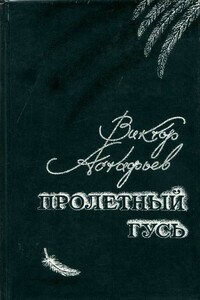
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые — журн. «Новый мир», 1928, № 11. При жизни писателя включался в изд.: Недра, 11, и Гослитиздат. 1934–1936, 3. Печатается по тексту: Гослитиздат. 1934–1936, 3.

Василий Журавлев-Печорский пишет о Севере, о природе, о рыбаках, охотниках — людях, живущих, как принято говорить, в единстве с природой. В настоящую книгу вошли повести «Летят голубаны», «Пути-дороги, Черныш», «Здравствуй, Синегория», «Федькины угодья», «Птицы возвращаются домой». Эта книга о моральных ценностях, о северной земле, ее людях, богатствах природы. Она поможет читателям узнать Север и усвоить черты бережного, совестливого отношения к природе.
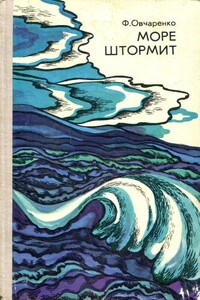
В книгу известного журналиста, комсомольского организатора, прошедшего путь редактора молодежной свердловской газеты «На смену!», заместителя главного редактора «Комсомольской правды», инструктора ЦК КПСС, главного редактора журнала «Молодая гвардия», включены документальная повесть и рассказы о духовной преемственности различных поколений нашего общества, — поколений бойцов, о высокой гражданственности нашей молодежи. Книга посвящена 60-летию ВЛКСМ.
