Мэгги Кэссиди - [37]
— Бедный Джеки, от такой дуры, как я, у тебя всегда будут одни неприятности.
— Нет, не будет.
— Я разозлилась тогда на Кровгорда. Ты его видел? Сегодня? В школе? Можешь ему передать, что я извиняюсь?
— Конечно — конечно — Прячет лицо мне в свитер:
— Мне все равно было так ужасно — У меня дядя умер, я видела его в гробу. Ах — это так… мне все говорят, что мне скучно, что мне нельзя только бродить о дому и думать о мальчиках — о тебе — тебе, — надув губки, целует меня. — А мне из дому даже выходить не хочется — там у них сплошь одни гробы, все мертвые — Как же я работать пойду, если мне и жить не хочется. Ой-ё-ёй — мне было так страаашно —
— Что?
— Мой дядя — Его похоронили в пятницу утром, камней на него набросали и цветы — А мне все равно было плохо, как о тебе подумаю — но не от этого плохо — но я тебе не могу сказать — объяснить не могу —
— Ничего.
Она сидела и смотрела у меня на коленях много асов, молчала, в темной гостиной — Я понимал всё, сдерживался, выжидал.
24
И в ту субботу вечером, когда мы с нею встретились в «Рексе», как у нас было заведено, там играли «Маскарад окончен», когда она вошла с улицы вместе с Бесси — несказанно красивая, как никогда раньше, с капельками росы на черных волосах, словно в глазах звездочки, и милый смех ее лучезарно сверкал розовым, хохотки позвякивали один за другим — Ей снова было хорошо, она опять навсегда красивая и недостижимая — будто темная роза.
Пальто ее пахло зимой и радостью у меня в руках. Ее кокетливые взглядики повсюду — импульсивные маленькие взоры на меня, чтобы посмеяться, что-то заметить, покритиковать или поправить мне галстук. Неожиданно обхватывает руками мою шею, притягивается глазами близко к моему лицу, своим лицом, схваченная будто рыданьем, сжимает меня, молит о признании в любви, жадно владеет и обладает мною, шепчет мне на ухо — Холодные извивающиеся нервные руки в моих ладонях, внезапная хватка и страх, безбрежная печаль вокруг нее, как крылья — «Бедная Мэгги!» — подумал я — толком и не зная, что сказать — а сказать-то и нечего — а если б и сказал — слова пали бы странным мокрым деревом изо рта — точно узор черных вен в земле, где похоронен ее дядюшка и все остальные дядюшки — не-сказуемое — не-присвояемое — расколотое.
Бок о бок с нею мы пялились на танец, оба — онемев и потемнев. Взрослая любовь, раздираемая среди едва повзрослевших ребер.
25
Мэгги у реки — «Бедненький Джек», — иногда смеется она и гладит меня по шее, заглядывает поглубже в мои глаза густо и уютно — голос ее в смехе чувственно надламывается, низкий — зубы ее как жемчужинки в этих алых створках ее губ, богатых алых вратах летнего плодородия, шрам апреля —
— Бедненький Джек, — и вот улыбка тускнеет в ямочках, только свет ее еще поблескивает в глазах, — мне кажется, ты сам не понимаешь, что делаешь.
— Меня бы это не уд-дивило —
— А если б знал, тебя бы здесь не было.
— А я что говорил?
— Нет — та-ак ты не говорил, — пьяно закатывает глаза, пьяня меня, проводя холодной ладошкой мне по щеке неожиданной лаской, столь нежной, что и ветры мая бы поняли, а ветры марта замирают и ждут, и успокаивающее «а-а» в ее губах каким-то немым легким дуновением отправляет мне одно слово, вроде «тебя-а» —
Глаза мои, глядя, падают прямо в ее глаза — мне хотелось, чтоб она увидела окна моей тайны. Она ее приняла — она ее не приняла — она еще не решила — она молода — осторожна — ее настроения переменчивы — ей хотелось дотянуться во мне до чего-то, и она пока не дотянулась — и, быть может, ей этого хватает, просто знать — «Джек — балбесина».
— Я б никогда с ним не связывалась — Он никогда не станет таким работящим, как мы видим, как остальные мужики, как Па, как Рой — он не наш — Странный. Эй, Бесси, а ты не думаешь, что Джек какой-то странный?
Бесси:
— Н-не-а?? — Мне откуда знать?
— Ну, — Мэгги хмыкает себе под нос, — я не знаю, должна признаться. — И манерно этак, чашкам: — Я в са-амом дел-ле не зна-а-йу. — По радио крутят пластинки. Везде разбросаны подушки. Вот бы сачкануть в эту гостиную. Солнечные шторки — утро.
— Так ты помирилась с Джеком, а?
— Ага. — Густогорло, точно модистка, что старше подружки, как замечательные старухи из Сан-Франциско, из тусклых деревянных меблирашек, что сидят весь день со своими попугаями и старинными приятельницами и болтают о тех временах, когда им принадлежали все бордели на Гавайях, или жалуются на первых мужей.
— Ну да. Наверно, он меня будет презирать.
— Почему это?
— Фиг знает. Говорю же — он смешной такой.
— А-а, ты с ума сошла.
— Ну, нав-верно.
Если б я рассмеялся и швырнул ей в лицо свои зубы любви, широченную ухмылку радостного понимания и приятия, у нее бы шевельнулась лишь тень подозрения в моих мотивах — что только углублялась бы — всю ночь — до самых бездонных печалей тьмы — все мои темные прогулки обратно от ее дома — все наши недопонимания — все ее интриги, грезы — провалились бы — все бы пропало.
26
Приближался мой день рождения, но я не должен был о нем знать — все спланировала сестра: его предполагалось отмечать в маленьком домике на Потакетвилльском холме возле церкви, где жила ее подруга. От меня все следовало утаить. Покупались подарки — маленькое радио-«эмерсонетка», в то время такое благотворное, но позже ставшее маленьким радио-радиатором отцовских скучных нырков в дешевые отельчики в грядущие годы его бродячей работы — Бейсбольная перчатка, что должна была стать вехой и символом наступавшего бейсбольного сезона и всех нас, игроков, купленная мне на день рождения, вероятно, Кровгордом — галстуки — Сестра приглашала всех: — Мэгги, Кровгорда, Елозу, Иддиёта, нескольких своих приятелей, моих родителей, соседских девчонок, которых приведут с собой парни, — я не должен был обо всем этом знать, но знал. Мне сказал Кровгорд.
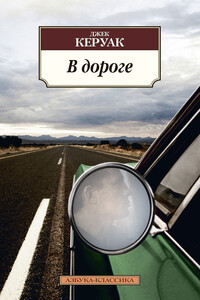
Джек Керуак дал голос целому поколению в литературе, за свою короткую жизнь успел написать около 20 книг прозы и поэзии и стать самым известным и противоречивым автором своего времени. Одни клеймили его как ниспровергателя устоев, другие считали классиком современной культуры, но по его книгам учились писать все битники и хипстеры – писать не что знаешь, а что видишь, свято веря, что мир сам раскроет свою природу. Именно роман «В дороге» принес Керуаку всемирную славу и стал классикой американской литературы.
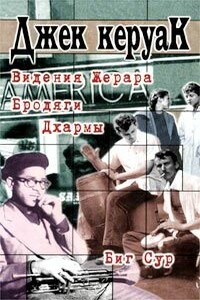
"Бродяги Дхармы" – праздник глухих уголков, буддизма и сан-францисского поэтического возрождения, этап истории духовных поисков поколения, верившего в доброту и смирение, мудрость и экстаз.

После «Биг Сура» Керуак возвращается в Нью-Йорк. Растет количество выпитого, а депрессия продолжает набирать свои обороты. В 1965 Керуак летит в Париж, чтобы разузнать что-нибудь о своих предках. В результате этой поездки был написан роман «Сатори в Париже». Здесь уже нет ни разбитого поколения, ни революционных идей, а только скитания одинокого человека, слабо надеющегося обрести свое сатори.Сатори (яп.) - в медитативной практике дзен — внутреннее персональное переживание опыта постижения истинной природы (человека) через достижение «состояния одной мысли».
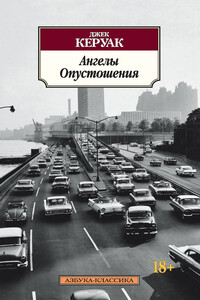
«Ангелы Опустошения» занимают особое место в творчестве выдающегося американского писателя Джека Керуака. Сюжетно продолжая самые знаменитые произведения писателя, «В дороге» и «Бродяги Дхармы», этот роман вместе с тем отражает переход от духа анархического бунтарства к разочарованию в прежних идеалах и поиску новых; стремление к Дороге сменяется желанием стабильности, постоянные путешествия в компании друзей-битников оканчиваются возвращением к домашнему очагу. Роман, таким образом, стал своего рода границей между ранним и поздним периодами творчества Керуака.

Еще при жизни Керуака провозгласили «королем битников», но он неизменно отказывался от этого титула. Все его творчество, послужившее катализатором контркультуры, пронизано желанием вырваться на свободу из общественных шаблонов, найти в жизни смысл. Поиски эти приводили к тому, что он то испытывал свой организм и психику на износ, то принимался осваивать духовные учения, в первую очередь буддизм, то путешествовал по стране и миру. Единственный в его литературном наследии сборник малой прозы «Одинокий странник» был выпущен после феноменального успеха романа «В дороге», объявленного манифестом поколения, и содержит путевые заметки, изложенные неподражаемым керуаковским стилем.

Еще при жизни Керуака провозгласили «королем битников», но он неизменно отказывался от этого титула. Все его творчество, послужившее катализатором контркультуры, пронизано желанием вырваться на свободу из общественных шаблонов, найти в жизни смысл. Поиски эти приводили к тому, что он то испытывал свой организм и психику на износ, то принимался осваивать духовные учения, в первую очередь буддизм, то путешествовал по стране и миру.Роман «Суета Дулуоза», имеющий подзаголовок «Авантюрное образование 1935–1946», – это последняя книга, опубликованная Керуаком при жизни, и своего рода краеугольный камень всей «Саги о Дулуозе» – автобиографического эпоса, растянувшегося на много романов и десятилетий.

«Ашантийская куколка» — второй роман камерунского писателя. Написанный легко и непринужденно, в свойственной Бебею слегка иронической тональности, этот роман лишь внешне представляет собой незатейливую любовную историю Эдны, внучки рыночной торговки, и молодого чиновника Спио. Писателю удалось показать становление новой африканской женщины, ее роль в общественной жизни.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.