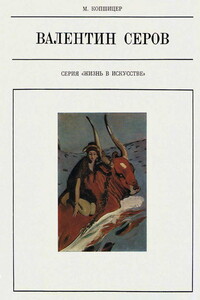Матисс - [95]
В попытке приобрести у Воллара картину Ван Гога в то время, когда Матисс отнюдь не был богат, нет ничего удивительного. Матисс открыл живописца, пришедшего к такому максимуму цветовой насыщенности, превзойти который предстояло лишь ему самому. Влияние голландца ощутимо в ряде матиссовских произведений 1898–1899 годов. Человек не менее мощного темперамента, он чувствовал в Ван Гоге родственную душу. Но скоро Матисс поймет, как важно обуздывать эмоцию. Поэтому из всех влияний сезанновское окажется наиболее важным.
Это влияние никоим образом не сводилось к перелицовыванию приемов мастера из Экса, как у явившихся позже многочисленных сезаннистов. Сезанн стал для Матисса примером всепоглощающего, поистине героического стремления к ясному и одновременно энергичному выражению мысли и чувства, без какого бы то ни было умаления сложностей в восприятии натуры. Сезанновский отказ от поверхностной этюдности, никогда не убывавшая забота об организации картинного пространства, об органической структурности как во всем построении холста, так и в отношениях отдельных тонов возникли не на пустом месте. Сезанн, с его необузданными страстями, острее, чем кто-либо другой, понимал, как важно выразить свои цели и свой порыв «логично, как это только возможно».
Опыт Сезанна, а также Гогена, Сёра, Синьяка противостоял тенденции, ведшей от импрессионизма к Ван Гогу и основывавшейся на спонтанности и полной непосредственности в выражении чувства. (Что Матисс тяготел к такой спонтанности, нетрудно убедиться, обратившись к его живописи 1898–1900 и 1905–1906 годов.)
Процесс избавления от «вангоговской» взбудораженности и импульсивности оказался сложным и длительным, потому что дело было не в смене одного влияния другим, а в неизбежном преодолении самого себя, преодолении, означавшем не отказ от чувств в пользу рассудочного сочинения картины, а своего рода «воспитание чувств». Пропущенные через фильтр творческой дисциплины, они приобретают глубину и тонкость.
К 1908 году, когда появляются «Заметки живописца» и такие картины, как «Красная комната», Матисс — сформировавшийся мастер, он уже умеет управлять собой. Однако эволюция всего его предшествующего творчества свидетельствует о том, как нелегко ему это давалось. Вслед за протофовизмом (1898–1900), когда молодой художник еще не хотел сдерживаться и давал волю чувствам, идет так называемый темный период (1901–1904). «Как и сегодня, — напишет Матисс в 1945 году, — путь для живописи нового поколения, казалось, был тогда совершенно закрыт; импрессионисты приковывали к себе все внимание; Ван Гога и Гогена не замечали. Чтобы как-то выдвинуться, нужно было очертя голову перепрыгнуть через стену».[560] Темный период, период раздумий и успокоения от эмоциональной яростности протофовизма, сделался необходимой паузой перед следующим, решающим прыжком — перед фовизмом (1905–1906), этим словно вырвавшимся из кратера расплавленным потоком.
В автобиографической заметке, написанной четверть века спустя, Матисс так характеризовал свое раннее творчество: «Вначале моя живопись придерживалась темной гаммы мастеров, которых я изучал в Лувре. Затем моя палитра проясняется. Влияние импрессионистов, неоимпрессионистов, Сезанна и художников Востока». [561]
Матисс перечисляет не все влияния, и из тех, кого он не назвал и кого не помянул также Эсколье, следует вспомнить Редона. Встреча с ним состоялась в 1900 году, а позднее Матисс сделался обладателем двух редоновских пастелей. Живопись Редона и Матисса, казалось бы, мало соприкасающиеся сферы. Против фантазии Редона, как и против фантазий Гюстава Моро, Матисс имел иммунитет художника, твердо стоящего на реальной почве. Но колористические открытия Редона, его «чистота и пылкость палитры» (это слова Матисса) не могли оставить художника равнодушным.
Чрезвычайно важную роль в становлении матиссовской манеры сыграли контакты с неоимпрессионистами. Правда, разойдясь с ними, Матисс язвительно упрекал их в педантизме провинциальных тетушек, но в годы созревания, уже на протофовистской и в особенности на фовистской стадиях, он не случайно прибегал к их приемам, к раздельным мазкам сверкающих красок. Неоимпрессионисты не только максимально очистили палитру от грязи (Ван Гог тоже многому у них научился), но заботились о структурности живописи. В методичности их мозаичных построений заключалась, пусть довольно механическая, гарантия стабильности, жизненно важная дня Матисса в «антистабильные» периоды 1898–1900 и 1905–1906 годов.
Осенний салон 1905 года сделал Матисса центром внимания всего художественного Парижа, а следовательно, и всей европейской художественной общественности. Уже выставка у Воллара годом раньше, не принесшая Матиссу публичного признания, привлекла к нему большой интерес многих живописцев. В Салоне Независимых весной 1905 года, где наряду с Матиссом показали свои полотна Ван Донген, Дюфи, Камуэн, Манген, Марке, Дерен, Вламинк, фактически оформилась группа фовистов, хотя роковое слово les fauves («дикие») прозвучало, как известно, лишь осенью. Критик Воксель, обычно вспоминаемый в связи с изобретением термина фовизм, сумел еще до выставки Осеннего салона 1905 года понять, что Матисс играет в этой группе первенствующую роль. Дело не в том, что он был старше других. Его могучая целеустремленность, ясность, с какой он умел излагать свои мысли, и энергичность, с которой он воплощал их на холсте, естественно, делали его вождем группы.

Книга посвящена одному из виднейших художников-графиков Франции середины XIX века. Домье — мастер воинствующей сатиры, беспощадно разоблачавший в своих литографиях и скульптурах-шаржах буржуазное общество. Автор включил в свой беллетризированный рассказ о Домье обширные воспоминания о нем его великих современников — поэтов и художников. В их дневниках и письмах оживает и образ Домье и эпоха, в которую он жил и творил. Книга иллюстрирована.

Князь Андрей Волконский – уникальный музыкант-философ, композитор, знаток и исполнитель старинной музыки, основоположник советского музыкального авангарда, создатель ансамбля старинной музыки «Мадригал». В доперестроечной Москве существовал его культ, и для профессионалов он был невидимый Бог. У него была бурная и насыщенная жизнь. Он эмигрировал из России в 1968 году, после вторжения советских войск в Чехословакию, и возвращаться никогда не хотел.Эта книга была записана в последние месяцы жизни князя Андрея в его доме в Экс-ан-Провансе на юге Франции.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
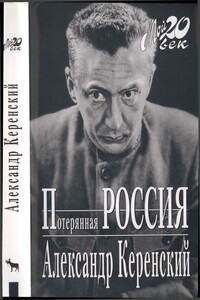
Современному читателю впервые представлены воспоминания и политический дневник Александра Федоровича Керенского (1881–1970), публиковавшиеся с 1920–х годов в русской периодике Парижа, Берлина, Праги, Нью- Йорка. Свидетельства одного из главных участников Февральской революции 1917 года до сих пор остаются в числе самых достоверных источников по истории России.

Он больше чем писатель. Латиноамериканский пророк. Например, когда в Венесуэле (даже не в родной Колумбии!) разрабатывался проект новой конституции, то в результате жаркой, чудом обошедшейся без применения огнестрельного оружия дискуссии в Национальном собрании было решено обратиться к «великому Гарсия Маркесу». Габриель Гарсия Маркес — человек будущего. И эта книга о жизни, творчестве и любви человека, которого Салман Рушди, прославившийся экзерсисами на темы Корана, называет в своих статьях не иначе как «Магический Маркес».

Это не полностью журнал, а статья из него. С иллюстрациями. Взято с http://7dn.ru/article/karavan и адаптировано для прочтения на е-ридере. .

Владимир Дмитриевич Набоков, ученый юрист, известный политический деятель, член партии Ка-Де, член Первой Государственной Думы, род. 1870 г. в Царском Селе, убит в Берлине, в 1922 г., защищая П. Н. Милюкова от двух черносотенцев, покушавшихся на его жизнь.В июле 1906 г., в нарушение государственной конституции, указом правительства была распущена Первая Гос. Дума. Набоков был в числе двухсот депутатов, которые собрались в Финляндии и оттуда обратились к населению с призывом выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п.
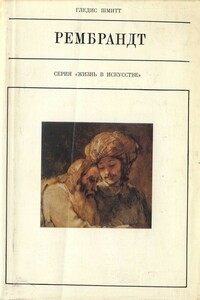
Перед вами биографическая повесть о жизни и творчестве художника, великого голландского мастера, Рембрандта ван Рейна.Послесловие И. В. Линник.
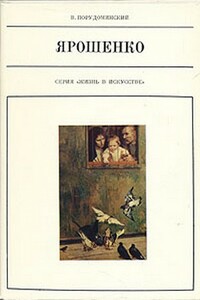
Книга посвящена одному из популярных художников-передвижников — Н. А. Ярошенко, автору широко известной картины «Всюду жизнь». Особое место уделяется «кружку» Ярошенко, сыгравшему значительную роль среди прогрессивной творческой интеллигенции 70–80-х годов прошлого века.
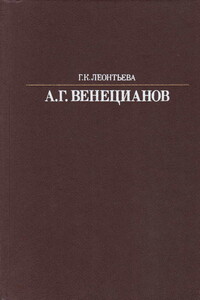
Книга посвящена замечательному живописцу первой половины XIX в. Первым из русских художников Венецианов сделал героем своих произведений народ. Им создана новая педагогическая система обучения живописи. Судьба Венецианова прослежена на широком фоне общественной и литературно-художественной жизни России того времени.