Мать - [2]
И Ниночка в исступлении упала к ней на колени и билась головой о постель, задыхаясь от горя. Она больше не сдерживалась. Она весь ужас свой выплакать хотела.
Анна Григорьевна крестила её и, сама не сознавая, что говорит, повторяла:
– Грешно, Ниночка… Терпеть надо… Грешно так…
Ниночка так ослабела, что не могла дойти до своей комнаты, осталась у бабушки. Анна Григорьевна испугалась, позвала утром старичка в больших очках.
Он покачал головой, прописал лекарство и сказал:
– Так совершенно невозможно: больная нуждается в покое.
Ниночка пролежала нисколько дней. Когда ей стало лучше, Анна Григорьевна спросила:
– Можно с тобой поговорить?
– Можно.
Анна Григорьевна села к ней на постель.
– Ты только не расстраивайся, а то я лучше не буду.
– Нет, ничего, – серьёзно сказала Ниночка.
Бабушка не плакала и пристальным, новым для Ниночки взглядом смотрела на нее.
– Я всё знаю, – сказала бабушка, – горе большое, верно, – только терпеть надо. Так верно Богу угодно. Ты будешь терпеть, Ниночка, до конца всё…
Ниночка молчала.
– Ты мне слово должна дать.
– Пока хватит сил, буду терпеть, – тихо, но твёрдо проговорила Ниночка.
Бабушка ушла в свою комнату и долго не возвращалась. А когда пришла, лицо её было спокойное и светлое. Морщинки разгладились. Она подошла к постели и сказала ласково:
– Ниночка, ты, может быть, встала бы?
– Не хочется, бабушка… да и незачем…
– Как незачем? жить-то надо же…
Ниночка улыбнулась.
– Ну, что же, попробую…
Она встала, перешла к окну, на кресло, посмотрела в сад.
– Бабушка, листья жёлтые!.. – удивилась Ниночка.
– Пора, сентябрь месяц.
– Да, правда, а я и не заметила…
Узенькие дорожки в саду были покрыты красными листьями тополя. Бледно-золотая рябина покачивалась по-осеннему, и на ней, как серебряные нити, блестела паутина.
– Я и не заметила, – задумчиво проговорила Ниночка.
III
Ребёнок должен был родиться в начале мая.
Бабушка ни за что не хотела отпускать Ниночку в больницу. Там не позволят день и ночь сидеть у постели: мало ли что может случиться.
Ниночка на всё соглашалась. На неё нашло какое-то тупое равнодушие. Всё ей было безразлично.
В самый последний день бабушка спросила её:
– Может быть, доктора позвать?
Ниночка даже удивилась:
– Доктора? Зачем это? – И поспешно прибавила: – Нет-нет, не надо…
Ночью бабушка услыхала за стеной слабый сдавленный крик. У Ниночки начались боли, но она терпела, пока сил хватило.
Анна Григорьевна вошла в комнату. Ниночка лежала, вытянувшись на постели, судорожно закинув назад голову. Под глазами легли тёмно-синие круги, напряжённо-застывшее лицо вытянулось, и сквозь стиснутые зубы вырывался странный, не похожий на голос Ниночки, равномерный крик.
Пришла акушерка, суетливая, с жилистыми веснушчатыми руками. Шумно начала переставлять всё в комнате по-своему.
Переложила Ниночку на другую кровать.
– За доктором не надо ли? – всё спрашивала её Анна Григорьевна.
Акушерка обиженно пожимала плечами и говорила:
– При чём тут доктор, не понимаю.
А крик становился всё громче, всё чаще и настойчивее. Промежутков почти не было. Только иногда, точно в забытьи, Ниночка прерывала его отрывистыми словами:
– Трудно мне… ой… не могу я… трудно мне…
Но скоро не стало и этих слов, начался беспрерывный, всё усиливающийся крик, даже не похожий на человеческий голос.
Рано утром ребёнок родился. Его унесли в бабушкину комнату. Ниночка лежала как мёртвая. Глаза ввалились. Нос заострился, худые прозрачные руки упали на простыню.
– Мальчик! – объявила акушерка.
– Позовите бабушку, – тихо сказала Ниночка.
Пришла Анна Григорьевна.
– Что ты, Ниночка?
– Принеси его ко мне… – одними губами выговорила она.
Бабушка поняла и робко спросила:
– Может быть, после?
– Принеси… – повторила Ниночка.
Анна Григорьевна ушла. Вернулась вместе с акушеркой. Но ребёнка несла сама: красненького, сморщенного, с длинными рыжеватыми волосами.
Ниночка взглянула на него. И вдруг, неожиданно для себя, приподнялась и, точно отталкивая кого-то руками, закричала:
– Унесите!.. Унесите его!..
Акушерка засмеялась:
– Все молодые мамаши так: боятся, что маленькому сделают больно.
Она проворно выхватила его из рук бабушки и унесла.
У ребёнка был большой рот, и Ниночке показалось, что губы у него синие, а ноздри вывернуты наружу. Лицо маленькое, сморщенное, но губы и ноздри мелькнули отчётливо, точно нарисованные.
Когда она пришла в себя и начала вспоминать лицо ребенка, она не могла дать себе отчёта: показалось ей сходство или было на самом деле. Успокаивала себя: конечно, показалось… Я так этого боялась, вот и почудилось… Разве у ребенка могут быть такие губы…
Бабушка стояла растерянная, испуганная. Ниночка заметила это и, не глядя на неё, сказала:
– Мне показалось… Теперь прошло… Я больше не буду так…
– Может быть, кормилицу лучше?
– Нет, я сама.
– Подумай, Ниночка.
– Сама.
Акушерка вернулась, услыхала, о чём говорят, и вмешалась:
– Лучше всего самой кормить. Я не понимаю, что за охота возиться с кормилицей? И расход, и неудобства. Ребёнок слабенький, мало ли что может случиться: а потом обвиняют медицину…
Бабушка только вздохнула. Настаивать не стала.
Первый раз принесли его кормить вечером. Ниночка прежде, чем положить на постель, внимательно на него посмотрела…

Книга «Диалоги» была написана протоиереем Валентином Свенцицким в 1928 году в сибирской ссылке. Все годы советской власти эту книгу верующие передавали друг другу в рукописных списках. Под впечатлением от этой книги многие избрали жизнь во Христе, а некоторые даже стали священниками.
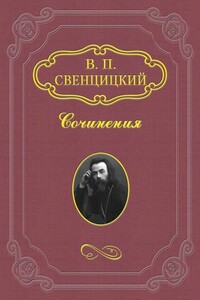
«Капитан Изволин лежал на диване, забросив за голову руки и плотно, словно от ощущения физической боли, сожмурив глаза.«Завтра расстрел»… Весь день сжимала эта мысль какой-то болезненной пружиной ему сердце и, толкаясь в мозг, заставляла его судорожно стискивать зубы и вздрагивать.Дверь кабинета тихонечко открылась и, чуть скрипнув, сейчас же затворилась опять…».
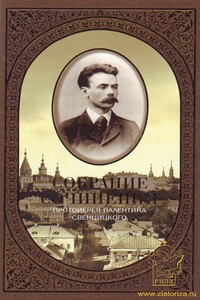
Произведение написано в начале 20-го века. В дореволюционную Россию является Христос с проповедью Евангелия. Он исцеляет расслабленных, воскрешает мёртвых, опрокидывает в храмах столы, на которых торгуют свечами. Часть народа принимает его, а другая часть во главе со священниками и церковными старостами — гонит. Дело доходит до митрополита Московского, тот созывает экстренное собрание столичного духовенства, Христа называют жидом, бунтарём и анархистом. Не имея власти самому судить проповедника, митрополит обращается к генерал-губернатору с просьбой арестовать и судить бродячего пророка.
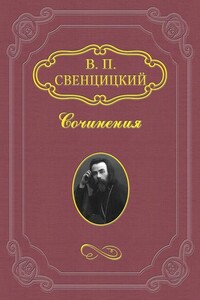
«…Игравшиеся лучшими актерами дореволюционной России пьесы Свенцицкого охватывают жанры от мистической трагедии («Смерть») до бытовой драмы с элементами комедии («Интеллигенция»), проникнуты духом обличения пороков и пророчествуют о судьбе страны («Наследство Твердыниных»)…».

По благословению Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II Ни в одном угоднике Божием так не воплощается дух нашего православия, как в образе убогого Серафима, молитвенника, постника, умиленного, всегда радостного, всех утешающего, всем прощающего старца всея Руси.

Протоиерей Валентин Свенцицкий (1881–1931) – богослов, философ и духовный писатель. В сборник вошли произведения, написанные о. Валентином до его рукоположения. «Второе распятие Христа» – фантастическая повесть о пришествии Христа в современный мир. За неполные два тысячелетия, прошедшие после евангельских событий, на земле мало что изменилось. Люди все так же не верят Христу, не понимают смысла Его заповедей. Никем не признанный, Он снова предается суду.Роман «Антихрист» по стилю и по проблематике очень близок к произведениям Достоевского.

Рассказы и статьи, собранные в книжке «Сказочные были», все уже были напечатаны в разных периодических изданиях последних пяти лет и воспроизводятся здесь без перемены или с самыми незначительными редакционными изменениями.Относительно серии статей «Старое в новом», печатавшейся ранее в «С.-Петербургских ведомостях» (за исключением статьи «Вербы на Западе», помещённой в «Новом времени»), я должен предупредить, что очерки эти — компилятивного характера и представляют собою подготовительный материал к книге «Призраки язычества», о которой я упоминал в предисловии к своей «Святочной книжке» на 1902 год.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом-осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В шестой том собрания сочинений вошли прозаические произведения 1916–1919., пьесы и статьи.Комментарии Ю. Чирвы и В. Чувакова.http://ruslit.traumlibrary.net.
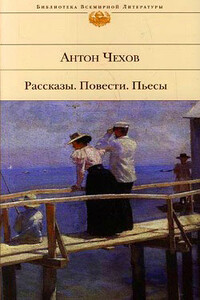
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.