Мастера русского стихотворного перевода. Том 1 - [24]
И все же провозглашенный Брюсовым научно-художественный принцип поэтического перевода оказался в высшей степени плодотворным. К нему по существу присоединился А. Блок, автор многих и весьма замечательных переводных стихотворений, среди которых важнейшие — переводы из Байрона, Исаакяна, Гейне. В первые годы советской власти Блок принял участие в деятельности издательства «Всемирная литература» и готовил, продолжая дело Гербеля — Венгерова — Брюсова, собрание сочинений Гейне в переводе русских поэтов[71].
Русский Гейне — особая проблема поэтического развития второй половины XIX века. В его создании приняли участие многие поэты несоизмеримых масштабов, разных направлений и мировоззрений: Лермонтов, К. Павлова, А. Толстой, Михайлов, Добролюбов, Мей, Минаев, Вейнберг, Плещеев и другие. На протяжении двух-трех десятилетий возникли бесчисленные разные Гейне: один казался слащаво-сентиментальным эпигоном романтиков, другой — автором традиционных баллад, третий — ироническим скептиком, даже циником, четвертый — яростным политическим сатириком… XIX век так и не собрал воедино эти разрозненные черты, — Гейне, как ни один другой поэт, оказался раздроблен и измельчен, и в этом обширном наследии Блоку пришлось разбираться в 1918 году. Его статья «Гейне в России» (1919) свидетельствует о тщательности анализа громадного материала и о глубокой мотивированности оценок. Так, о Михайлове Блок отзывался с восхищением, считая, что он до сих пор «по качеству переводов не превзойден никем», что большая часть его переводов — «настоящие перлы поэзии…». Однако после этих справедливо высоких слов Блок, которому важно не только звучание русского стиха, но и великий немецкий поэт, добавляет: «Все же — это не Гейне… переводы лишены той беспощадности и язвительной простоты, которая характерна для Гейне; в Михайлове было слишком много того, что называли у нас „романтизмом“»[72]. Вообще же Блок, считая, что к Гейне приблизились только два поэта XIX века — Ап. Григорьев и М. Михайлов, — объясняет это, кроме природного дарования переводчиков, еще и тем, что им помогли «во-первых — косые лучи закатывающегося солнца пушкинской культуры, во-вторых — грозовый воздух, которым была насыщена предреволюционная Европа». Это же можно сказать и о переводах самого Блока (1909), представляющих высшую точку «русского Гейне», — их успех, в частности, связан с тем самым, что Блок назвал «грозовым воздухом» предреволюционной поры. Уже после революции, в конце 20-х — начале 30-х годов, в переводах Юрия Тынянова проявилось именно то самое, чего так не хватало М. Михайлову и что хотел видеть Блок в переводах из Гейне: «беспощадность и язвительная простота». Блок создал Гейне-лирика, Тынянов — политического сатирика.
Брюсов и Блок — оба они стоят у истоков того переводческого искусства, которое составило славу советской литературы. При этом в творчестве Брюсова преобладает начало просветительское, профессиональное, в поэзии Блока — лирическое: все, что Блок переводил, могло быть написано им самим; ему почти не приходилось перевоплощаться, чтобы воссоздать гейневское «Тихая ночь, на улицах дрема…» или «Отрывок» Байрона:
Линия Брюсова была продолжена и углублена в творчестве М. Л. Лозинского, который, унаследовав от Брюсова его профессионализм, его научно-художественный подход к переводу, не до конца преодолел свойственное Брюсову противоречие: порой у Лозинского детали тоже брали верх над целым. Однако это не слабость, не недостаток, а принципиальная установка: еще слишком велико отвращение к безудержному своеволию, страх перед губительной «бальмонтовщиной»; казалось, только соблюдением строжайшей формальной дисциплины ее можно преодолеть. Впрочем, Лозинский, следуя завету Брюсова, менял метод перевода в зависимости от характера подлинника: он бывал академически точен, переводя «Божественную комедию» Данте, или трагедии Шекспира, или корнелевского «Сида», в философских стихах Леконта де Лиля чувствовал себя свободнее, а в комедиях Лопе де Веги или Тирсо де Молины давал простор творческому воображению. Именно в этих вещах он одерживал свои наивысшие победы — особенно в блистательных переводах из Леконта де Лиля (над ними Лозинский работал в течение двадцати лет, с 1919 года). А. Блок, читавший самые ранние из них, записал в 1920 году в дневнике: «Глыбы стихов высочайшей пробы»
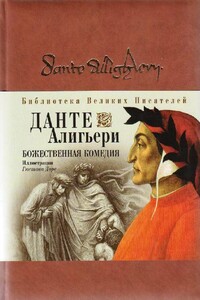
«Комедия», ставшая для потомков «божественной книгой» — одно из величайших художественных произведений, какие знает мир. Это энциклопедия знаний «моральных, естественных, философских, богословских», грандиозный синтез феодально-католического мировоззрения и столь же грандиозного прозрения развертывающейся в то время новой культуры. Огромный поэтический гений автора поставил комедию над эпохой, сделал ее достоянием веков.Перевод и примечания Михаила Леонидовича Лозинского.Иллюстрации Гюстова Доре.
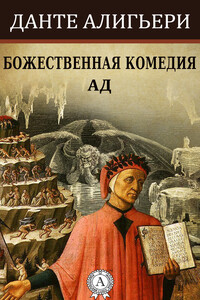
«Божественная комедия. Ад» – первая часть шедевральной поэмы великого итальянского поэта эпохи Возрождения Данте Алигьери (итал. Dante Alighieri, 1265 – 1321).*** Заблудившись в дремучем лесу, Данте встречает поэта Вергилия и отправляется с ним в путешествие по загробному миру. И начинается оно с девяти кругов Ада, где поэты встречают всевозможных грешников – обманщиков, воров, насильников, убийц и самоубийц, еретиков, скупцов, чревоугодников и прочих – среди которых узнают многих исторических фигур. Все они страдают от разных мук в зависимости от грехов, но самые страшные – в последнем, девятом кругу, где находятся предатели… Две другие части этого гениального произведения – «Чистилище» и «Рай».
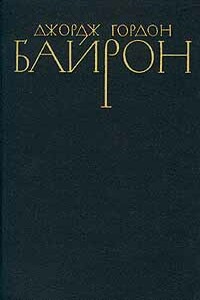
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
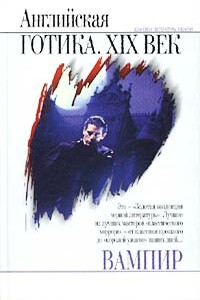
Хотя «Вампир» Д. Байрона совсем не закончен и, по сути, являетя лишь наброском, он представляет интерес не только, как классическое «готическое» призведение, но еще и потому что в нем главным героем становится тип «байронического» героя — загадочного и разачарованного в жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
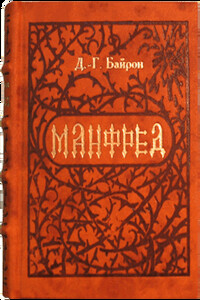
Мистическая поэма английского поэта-романтика Джорджа Ноэла Гордона Байрона (1788–1824) о неуспокоившемся после смерти духе, стремящемся получить прощение и вернуть утерянную при жизни любовь.
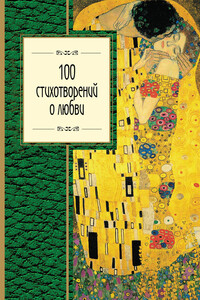
Что такое любовь? Какая она бывает? Бывает ли? Этот сборник стихотворений о любви предлагает свои ответы! Сто самых трогательных произведений, сто жемчужин творчества от великих поэтов всех времен и народов.
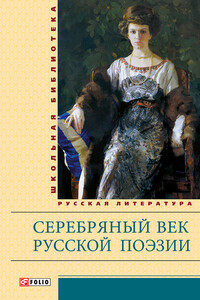
На рубеже XIX и XX веков русская поэзия пережила новый подъем, который впоследствии был назван ее Серебряным веком. За три десятилетия (а столько времени ему отпустила история) появилось так много новых имен, было создано столько значительных произведений, изобретено такое множество поэтических приемов, что их вполне хватило бы на столетие. Это была эпоха творческой свободы и гениальных открытий. Блок, Брюсов, Ахматова, Мандельштам, Хлебников, Волошин, Маяковский, Есенин, Цветаева… Эти и другие поэты Серебряного века стали гордостью русской литературы и в то же время ее болью, потому что судьба большинства из них была трагичной, а произведения долгие годы замалчивались на родине.

В предлагаемой подборке стихов современных поэтов Кореи в переводе Станислава Ли вы насладитесь удивительным феноменом вселенной, когда внутренний космос человека сливается с космосом внешним в пределах короткого стихотворения.

Орден куртуазных маньеристов создан в конце 1988 года Великим Магистром Вадимом Степанцевым, Великим Приором Андреем Добрыниным, Командором Дмитрием Быковым (вышел из Ордена в 1992 году), Архикардиналом Виктором Пеленягрэ (исключён в 2001 году по обвинению в плагиате), Великим Канцлером Александром Севастьяновым. Позднее в состав Ордена вошли Александр Скиба, Александр Тенишев, Александр Вулых. Согласно манифесту Ордена, «куртуазный маньеризм ставит своей целью выразить торжествующий гедонизм в изощрённейших образцах словесности» с тем, чтобы искусство поэзии было «возведено до высот восхитительной светской болтовни, каковой она была в салонах времён царствования Людовика-Солнце и позже, вплоть до печально знаменитой эпохи «вдовы» Робеспьера».