Мастера. Герань. Вильма - [182]
Это я умел. Однако нынче, нынче другое время пришло, а я не хочу себе в этом признаться. Нынче другое уже время.
С Вильмой и то я не поговорил по душам, и с отцом разговариваю, лишь бы он от меня отвязался, прежде все было иначе, чем теперь. Но я ведь там был, был в самой гуще, знаю, как погиб Карчимарчик и тот цыган, что когда-то отцу так приглянулся — он хотел его и на мою свадьбу позвать, — знаю, как погибли в один и тот же день кузнец Онофрей и мой друг Якуб, причетник из Церовой. Неохота об этом особенно и раздумывать. Но можно ли не раздумывать? Я был там и ничем не заплатил. Иные заплатили, заплатили жизнью, а я ничем, все только хвораю. Доколе, доколе еще? Когда же начну платить? Или хотя бы покажу, что недостоин этого долга? А если достоин, так кто тогда, ну кто подскажет, чем, почему, за что, кому и как надо платить, чем платить и как платить?
Размышляя таким образом и что-то решая для себя, он незаметно очутился в имении. Но здесь все по-иному, чем прежде. Все как-то запущено, заброшено. Или и раньше так было? Нет-нет, что-то здесь изменилось, очень многое изменилось.
Сушильни для кукурузы исчезли. Ни одной не осталось. Куда они делись? Может, и кукурузу уже не выращивают либо сушат где-нибудь в ином месте? Имро осматривается, но впустую — сушилен нет. Ну видишь, Кубко, мысленно обращается он к старшему брату, нету твоей сушильни, а мой сарай, эко, еще стоит! Крепко мы с отцом его сработали.
На доме управителя — замок, а на дверях табличка: «Склад». А под ней на другой, побольше: «Посторонним вход запрещен!»
Имро чуть медлит, а потом осознает, что и он тут посторонний — его же никто сюда не звал, — и бредет дальше.
Заглядывает в батрацкие дома, в один, другой, а в остальные уже не заглядывает, понимает, что и дома сменили обитателей. Не иначе как здесь поселились цыгане. Перед лачугой Онофрея выросла какая-то бетонная диковина, и Имро, в самом деле, пришлось бы поразмыслить, что это, кабы не вышла прямо из Онофриевых дверей женщина средних лет, не слишком красивая, но и не уродина, для цыганки даже довольно опрятная, и не заговорила бы с ним грубоватым, хриплым голосом: — Воды нету. Второй день. Нынче и света нету. Нынче все испортилось. И эта водокачка уже два дня не работает — лопнуло что-то. Труба вроде. Или кран, какой-то краник сломался. А этот олух Яно, он тут вечно мотается, наверняка опять назюзюкался, пришел чинить, да ключи потерял. Вы никак контролер будете?
— Нет. Я только поглядеть.
— На эту водокачку? Ее, уж поди, и починить пора. Видано ли такое? Этот придурок Яно, ну право, куда он годится. Дать бы ему под зад или хоть по роже. Надо же, ключи потерять, вот псих малахольный!
— Да я пришел к управителю. Не знаете, где его найти? — И вдруг сам вспомнил: Киринович теперь живет в Церовой.
— Этот тут не живет. Переехал в Церовую, он теперь большой пан. Еще боле, чем был. Работает в районе. А того молодого, что пришел заместо него, собака не сыщет. Никто и ведать не ведает, где он проживает. Но пошутить горазд, почитай, будет еще посмешливей и повеселей, чем Киринович.
И вдруг — возможно ли?! Кого же это Имрих не сразу приметил? По дороге к имению катит телега, а рядом с лошадьми, так же как всегда, так же как и когда-то, только теперь чуть сгорбившись и припадая на одну ногу, шагает Ранинец. У Имро глаза полезли на лоб.
Нет, быть того не может!
— Кто это? — спрашивает он цыганку.
— Ранинец.
— Ранинец?! Ранинец же погиб!
— Черта лысого погиб, эво, тут он.
Но в эту минуту уже Ранинец заметил Имришко и весело, подняв руку с хлыстом, приветствует его: — Здорово, Имришко! Я было думал, не придешь, что всех старых товарищей позабыл.
Вот уже Имро возле него, и они вместе подходят к конюшням. Ранинец распрягает лошадей, впускает их внутрь, оба хомута вешает на железные крюки, что вбиты прямо у дверей в грязную, растрескавшуюся стену, оштукатуренную крупнозернистым песком, затем привязывает лошадей, подсыпает им в ясли немного корму; а меж тем они вновь и вновь привечают друг друга.
Ранинец! Имро смотрит на него, словно все еще глазам своим не верит.
— Ей-богу, мне даже на ум не могло прийти, что я вас когда-нибудь увижу. Думал, погибли, думал, убили вас. Никто и не сомневался в этом!
— Эх, милок, а как же иначе! Многие дивовались. Не ты единственный. Меня уж и жена оплакала, а я в одну прекрасную ночь, когда все уже спали, возьми да ввались прямо в горницу, в постель к ней залез бы, не испугайся она так.
— Но ведь многие видели, видели, как вы упали, сперва раз, а потом вроде бы еще раз, и между тем жутко кричали. Я и сам слышал.
— Ясное дело, кричал. А кто бы не кричал? Я думал, что в меня стреляли, что меня уже застрелили, вот я и кричал.
— Как? А разве это не правда? Разве в вас не стреляли, разве не попали в вас?
— Как так не попали?! Попасть-то попали, только после. Сперва-то я кричал потому, что думал — не убежать мне, у меня ведь пузо, охо-хо, какое пузо, а тогда, по чести сказать, оно было у меня еще больше, где мне, милок, угнаться за молодыми? А потом меня что-то шарахнуло по голове, я хвать за голову, думал, вот оно, схлопотал, потому и закричал так, жуть как закричал, милок, так кричал, что у меня потом, ведь на бегу да с эдаким брюхом, даже дух перехватывало. А как видишь, не то было, дьявол, сам не знаю, что меня тогда по голове так жахнуло либо треснуло. Ровно кто камень в меня кинул или каким сучищем огрел по башке. Вполне мог быть сук. Были там вокруг какие-то деревья, ты-то ведь знаешь, дело было к рассвету, еще не очень-то и обеднялось, разве в этой полутемени, да и с отчаяния что путем разглядишь, тут недосуг было осматриваться. Вряд ли кто сидел на дереве, поджидая меня, чтоб какой здоровенной палкой по башке трахнуть! Но вдруг что-то кольнуло в бедро, дьявол, и как! А может, бог весть как и не кольнуло, только я враз кричать позабыл, враз завалился, истинный крест, это и была та самая пуля! А вы тогда, вы все обо мне думали, что мне крышка. И могла быть крышка. Уж и не знаю, крикнул ли я еще потом что кому, пожалуй, и впрямь уже нет, потому как эти гады на дороге все еще по кому-то стреляли и кричали, должно, кричали и заместо меня. Не дамся вам, ей-же-ей, не дамся, пускай лучше мне будет капут, да только мой капут, одурачу вас, прикинусь, что скапутился, а сам-то и не скапучусь. С минуту лежал я недвижно, а потом вроде бы струхнул! А что, если они идут за мной, что, если найдут меня здесь и сделают мне взаправдашний капут? Отполз я подальше, выбирать-то особо не приходилось, углядел я там какую-то дорогу, проселок вроде, да и того испугался, пополз по канаве, пока не дополз до моста. Такой это приземный мостик, две, а то, может, и три бетонные трубы. Дальше-то я уж по этой канавке не решился ползти, пришлось довериться мостику, да вот трубы эти для моего брюха оказались узки, не боле, чем трубочки, ну а для моей ноги, этой одеревенелой ножищи, они и подавно были узехоньки, уж я ее и так и сяк перевертывал, хотел ее как-нибудь умостить. Вот черт, думал я, хоть униформы меня тут и не сыщут, а все одно сдохну в этой трубочке, мостик меня погребет, найду я тут свою могилку. Долго я там не торчал, а все ж таки и того сполна хватило. Милок, а главное что! Вылезти потом оттудова не мог. Голова снаружи, а живот все еще в этой бетонной опояске, ну никак мне не управиться, ведь тут обе ноги требуются, чтобы ими путем опереться и как-нибудь вышмыгнуть, протолкнуться, а вот как? Ежели мне их даже не согнуть было. Хоть одна нога и работала, а что толку, вторая-то — никуда, одна обуза. Да еще лапы мои внутри остались, с ними тоже сладу нет, потому как и плечищами бог меня не обидел. И вдруг слышу, пищит что-то. Что пищит, где пищит? С минуту не двигаюсь, а заслышав, что писк все сильней и будто где-то, скорей всего на дороге, что-то слабехонько погромыхивает, думаю: должно быть, какая тележка или телега, тачка, вот те колесико либо колесо и попискивает. Сказываюсь, прошу: «Помогите, люди добрые!» И потом опять, по крайности разов пять, пришлось мне кричать. И вдруг стоит надо мной этакая пригожая бабенка, глаза таращит, понять не может, как это угодил я туда, что думать ей обо мне прикажете. «Помогите, богом прошу!» — «Господи боже, да что ж вы там делаете? Что с вами сталось?» — «Болящий я. Раненый. Нога у меня болит». Помогла, бедняга. Задал я ей работы. Ну а после, когда я все ей объяснил, помогла мне взобраться на тачку, потому как была то ни телега, ни тележка, а шла она с тачкой рано утречком, может, даже так рано и не было, шла в поле бобы собирать, ну и по дороге на меня наткнулась. Самому-то мне никак бы и не вылезти из этой трубы, не снять с себя этой чертовой опояски. Вот те крест, посейчас не пойму, как это я умудрился влезть туда, влезть-то я влез, а вот вылезть — черта с два! Прикатила она меня на тачке в деревню, и враз сбежалось во двор к ним полно соседей, соседок, все меня обглядывают, перешептываются: «Партизан, партизан!» «Люди добрые, гляньте, ну какой я партизан! Я всего-то обыкновенный работник, крестьянин, батрак из Церовой, почитай, победней любого из вас буду. Настоящего партизана я пока и в глаза-то не видел. Удумали мы идти с товарищами в Бистрицу, а видите, получил я свое уже по дороге. И о товарищах ничего толком не знаю, не знаю, который жив, который помер». Собрались они идти за лекарем, а я так и обмер: ну как с лекарем и немец придет? Ан не пришел ни лекарь, ни немец, а привели они всего-то обыкновенного деревенского олуха, видать, перед этим он как раз в навозе копался, потому как был порядком замаранный, грязнее меня, и смердел больше, и не только навозом — навоз-то знаком мне, знаю, как навоз пахнет, ведь, ежели речь идет и впрямь о навозе, от него редко когда батраку смердит. А этот мужик смердел больше, чем тысяча свиней, а в руках у него были всяческие скляночки и бинты и еще разная хреновина, сказывали мне, будто он брат милосердия, он им и прикидывался, однако ж враз набросился на меня: «Ну видишь, брюхан? Надо тебе это было? Вот кабы все на тебя теперь плюнули! Зачем туда лез, скажи, кто тебе приказывал? Не совестно тебе своих людей изводить?» Спервоначалу у меня даже язык отнялся. Как может он так меня поносить? Околеваю от боли, а он орет на меня, а потом таким же манером меня и пользует. Дикарь, да и только! Форменный душегуб! «Слышь, братец, я же боль перемогаю, я же никому ничего, вот те крест, я же не супротив своих, я ведь своим помочь хотел». А он на меня: «Заткни пасть, не то как тресну тебя! Вот бы президенту на тебя поглядеть, понял бы, какие супротив него герои!» — «Не был я героем и никогда не буду. Я своим хотел помочь». А он: «В бога душу твою, заткни пасть!» — и ударил. «Кто тебе свой? Я тебе свой?» И опять ударил, два раза ударил. «Божий человек, коли хочешь, можешь меня обидеть, так я ему сказал, можешь меня и убить, ведь сам видишь, не могу за себя постоять. В твоей воле погубить меня или миловать, но слово твое несправедливо». — «Еще рассуждаешь тут! Я с президентом, а ты супротив него. Наших убивал». — «Пускай бог меня покарает, коли это правда! Я никого не убивал!» — «Так он же тебя покарал». — «Покарал, но не за то, что я убивал. Выслушал бы ты меня, может, и сам бы признал, что я малость прав. Я не только о президенте думаю, а еще и о других, обо всех, и о себе, чтобы самого себя не стыдиться. Я хотел наших защитить». — «Каких наших? И против кого? Где они, немцы? Покажи мне тут хоть одного! Ведь немцев здесь и не было!» — «Да ведь и я тут до сей поры не был. Дома был, в церовском имении, с лошадьми ходил, всегда пахал и сеял на совесть, а когда косили, свозили и молотили, следил и за тем, чтобы ни зернышка попусту не пропало, хотя я всего только батрак, а рассуждай я без понятия, мог бы и сказать себе: это же не мое, зачем мне так радеть об этом зернышке». Между тем душегуб этот, поистине без всякой мало-мальской жалости, очистил и обвязал рану, а когда я кой-как оделся и застегнулся, ему, видать, сызнова захотелось тюкнуть меня. «Проваливай! — заорал. — А ежели отсюда не уберешься враз и никто не донесет на тебя, я сам на тебя донесу. Топай к себе, рана у тебя плевая! Но иди домой да оглядывайся, не ровен час снова зло меня возьмет, тогда подошлю к тебе кого, свернет он твою поганую иудину шею!» Ну я и припустил, ох и припустил! Прохиндей чертов, как же страшно он меня ненавидел, жуть как должен был меня ненавидеть, сказал, что у меня ничего, а, видишь, по сю пору хромаю и уж до смерти буду хромать. Благодарение богу, это еще не самое худшее, за лошадью поспеваю ходить. Другим и вовсе лихо пришлось. О Карчимарчике ничего не знаешь?

В 1966 году в Праге проходил Международный конкурс книг для детей и юношества под девизом «Для молодёжи атомного века». Первую премию на этом конкурсе получила повесть молодого словацкого писателя Ви́нцента Ши́кулы «Каникулы с дядюшкой Рафаэ́лем». В весёлой непритязательной манере рассказывает повесть о деревне Гру́шковец, «самой обыкновенной деревне, как и все», и о знаменитом деревенском оркестре, в котором играет на геликоне герой повести одиннадцатилетний Винцент. Но за этим непритязательным весёлым рассказом встаёт жизнь современной словацкой деревни со всеми её заботами и радостями.

Первые две повести крупнейшего словацкого прозаика («У пана лесничего на шляпе кисточка» и «Яичко курочки-невелички») носят во многом автобиографический характер, третья («Юрчику привет от Юрчика!») — сказочная, героями ее являются птицы. Эта книга — о любви ко всему живому на земле, и прежде всего — к детям и животным.

Герои книги – рядовые горожане: студенты, офисные работники, домохозяйки, школьники и городские сумасшедшие. Среди них встречаются представители потайных, ирреальных сил: участники тайных орденов, ясновидящие, ангелы, призраки, Василий Блаженный собственной персоной. Герои проходят путь от депрессии и урбанистической фрустрации к преодолению зла и принятию божественного начала в себе и окружающем мире. В оформлении обложки использована картина Аристарха Лентулова, Москва, 1913 год.
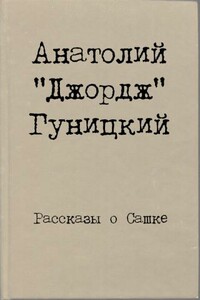
Повесть, написанная одним из "отцов-основателей" рок-группы "Аквариум" литератором Анатолием "Джорджем" Гуницким. В тексте присутствуют присущие этому автору элементы абсурда, что роднит данное сочинение с литературой ОБЭРИУтов.
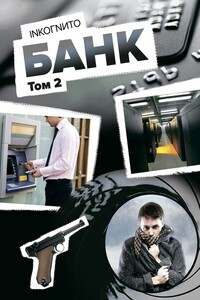
Это и роман о специфической области банковского дела, и роман о любви, и роман о России и русских, и роман о разведке и старых разведчиках, роман о преступлениях, и роман, в котором герои вовсю рассматривают и обсуждают устройство мира, его прошлое, настоящее и будущее… И, конечно, это роман о профессионалах, на которых тихо, незаметно и ежедневно держится этот самый мир…
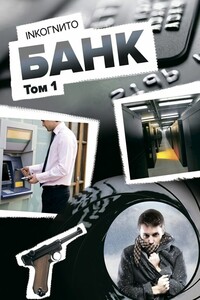
Это и роман о специфической области банковского дела, и роман о любви, и роман о России и русских, и роман о разведке и старых разведчиках, роман о преступлениях, и роман, в котором герои вовсю рассматривают и обсуждают устройство мира, его прошлое, настоящее и будущее… И, конечно, это роман о профессионалах, на которых тихо, незаметно и ежедневно держится этот самый мир…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Все мы рано или поздно встаем перед выбором. Кто-то боится серьезных решений, а кто-то бесстрашно шагает в будущее… Здесь вы найдете не одну историю о людях, которые смело сделали выбор. Это уникальный сборник произведений, заставляющих задуматься о простых вещах и найти ответы на самые важные вопросы жизни.
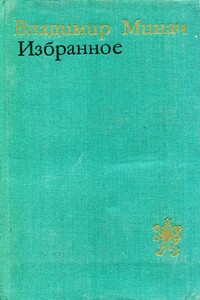
Владимир Минач — современный словацкий писатель, в творчестве которого отражена историческая эпоха борьбы народов Чехословакии против фашизма и буржуазной реакции в 40-е годы, борьба за строительство социализма в ЧССР в 50—60-е годы. В настоящем сборнике Минач представлен лучшими рассказами, здесь он впервые выступает также как публицист, эссеист и теоретик культуры.

В книгу словацкого писателя Рудольфа Яшика (1919—1960) включены роман «Мертвые не поют» (1961), уже известный советскому читателю, и сборник рассказов «Черные и белые круги» (1961), впервые выходящий на русском языке.В романе «Мертвые не поют» перед читателем предстают события последней войны, их преломление в судьбах и в сознании людей. С большой реалистической силой писатель воссоздает гнетущую атмосферу Словацкого государства, убедительно показывает победу демократических сил, противостоящих человеконенавистнической сущности фашизма.Тема рассказов сборника «Черные и белые круги» — трудная жизнь крестьян во время экономического кризиса 30-х годов в буржуазной Чехословакии.
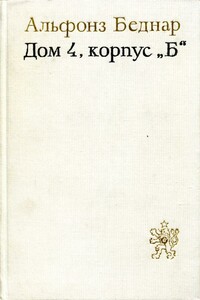
Это своеобразное по форме произведение — роман, сложившийся из новелл, — создавалось два десятилетия. На примере одного братиславского дома, где живут люди разных поколений и разных общественных прослоек, автор сумел осветить многие стороны жизни современной Словакии.

Ян Козак — известный современный чешский писатель, лауреат Государственной премии ЧССР. Его произведения в основном посвящены теме перестройки чехословацкой деревни. Это выходившие на русском языке рассказы из сборника «Горячее дыхание», повесть «Марьяна Радвакова», роман «Святой Михал». Предлагаемый читателю роман «Гнездо аиста» посвящен теме коллективизации сельского хозяйства Чехословакии.