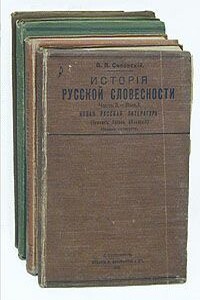Мастер и город. Киевские контексты Михаила Булгакова - [136]
Говорить об этом обстоятельстве, настаивать на нем нужно постольку, поскольку каждая булгаковская вещь содержит мнение художника о мире – именно то мнение, которое этим произведением выражено, и свойственное тому времени, когда произведение создавалось. Мучительный вопрос о соотношении добра и зла, бесконечное испытание вариантов этой коллизии на мировой сцене проходит через все творчество Булгакова. В ряду его произведений, завершающемся «Мастером и Маргаритой», это соотношение выдержано (как уже было показано) в духе Августина Блаженного, главного, по-видимому, нравственно-идеологического «источника» или ориентира Булгакова: зло не есть нечто самостоятельное, оно – всего лишь тень, отбрасываемая добром, отсутствие или ущерб добра. Более того, Булгаков решается на шаг, чрезвычайно обнадеживающий, и представляет зло на службе, чуть ли не на побегушках у добра.
Не то в «Батуме»: здесь, как мы видели, зло есть свойство провидения, ведущего к власти лжепророка, Антихриста. Зло здесь полноценно, полновластно и неостановимо: спящий проснется. Великий предшественник Булгакова Августин вышел из манихейства и всю жизнь вел с ним борьбу, совершая изощренные диалектические манипуляции на границе христианской ортодоксии с манихейской ересью. Булгаков в «Батуме» не удерживается на прежних позициях и впадает в манихейский грех. Сила зла оказывается самодостаточной и, по крайней мере, равной силе добра, так что исход борьбы далеко не предопределен. Автор «Батума» уже не может повторить вслед за персонажем «Мастера и Маргариты», что все будет правильно, ибо на том стоит мир. Более того, поправки, внесенные после «Батума», добавили темных красок в роман, шедший к катартическому – в духе трагического оптимизма – завершению. Глубокий скепсис, о котором Булгаков писал Сталину в 1930 году, стал еще глубже в 1939-м, в пьесе о Сталине, и пошел вширь. Не с последней надеждой мастера – на покой, только на покой, – а в горьком отчаянии уходил художник из литературы и из жизни. Последнее его слово о мире полно безнадежности.
Каждую свою пьесу Булгаков создавал с надеждой на успех – каждую, кроме «Батума». Если внимательно всмотреться во все факты творческой истории «Батума», с великим тщанием собранные исследователями, то может показаться – так ли уж безосновательно? – что в авторский замысел входила ставка на провал. На этот раз Булгаков, кажется, напряженно ждал запрета пьесы, и когда по серпуховскому перрону пробежала женщина, служащая станции, выкрикивая: «Булгахтеру телеграмма!» – он, счастливый член делегации лучшего в мире театра, автор принятой как будто пьесы, с комфортом направляющийся в Батум для изучения местной натуры, мгновенно побледнев, понял, что это – конец. В «булгахтере» он тотчас распознал свою искаженную фамилию, а содержание телеграммы словно бы знал наперед. За немедленной и точной реакцией Булгакова нетрудно разглядеть психологическую установку на поражение, страшно сказать – надежду на запрет своей пьесы. Он ждал и дождался запрета, который исходил непосредственно от прототипа главного героя «Батума».
Что прочел, что вычитал прототип в пьесе, где он выведен главным героем? То ли, что написано на этих страницах, в этой главе, или что-то другое? Ответ, по-видимому, навсегда останется в области предположений. «Все молодые люди одинаковы», – будто бы сказал прототип, запрещая пьесу к постановке. Лукавство, демагогическая увертливость, лицемерие подобных афоризмов Сталина известны, но этот скорее выглядит проговоркой. Все молодые люди одинаковы, и если молодой человек Сталин – одинаков со всеми, то пьеса о нем, конечно, не нужна. Нет ли здесь семинарской тоски по житийной литературе, герои которой необыкновенны изначально – с рождения, с детства, с юных лет? Если предположить искренность этой реплики (необыкновенно трудное предположение), то ожидалась пьеса в жанре жития, а представлено было нечто иное. Но, в то же время, можно ли считать «обыкновенным», «как все» молодого человека, в облике и поведении которого прочитываются черты лже-Христа, Антихриста, дерзкого самозванца – самое чудовищное воплощение мирской власти, владыку Града земного?
Булгаков написал «Батум» о том же, о чем написаны и все остальные его пьесы, – о диалектических сложностях противоречия между добром и злом. Непрерывно испытуя разные варианты этих противоречий, он столкнулся со случаем превращения пророка в вождя, с проблемой самозванчества. По жанру, по смыслу художественного исследования «Батум» оказался ближе всего к «Мольеру» («Кабала святош») и «Пушкину» («Последние дни») – вместе с ними он образует осмысленный ряд: пророк пытается приспособиться к власти, пророк, осуществляя свой дар, бросает власти вызов, пророк становится властью. Булгаков написал к юбилею Сталина свою пьесу, ждали же от него совсем другого. Это и определило судьбу «Батума», а судьба автора уже была определена.

Книгу выдающегося отечественного литературоведа Мирона Семеновича Петровского составили историко-литературные новеллы о судьбах классических произведений советской детской литературы, авторы которых — Александр Волков, Владимир Маяковский, Самуил Маршак, Алексей Толстой, Корней Чуковский. В книге восстановлены купюры, сделанные цензурой при первом издании книги — в 1986 году.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.