Маша Регина - [44]
Короче, я не знаю, Рома, в чем прикол. Мне кажется, что это какая-то изначальная порча. Просто с самого начала все идет вкривь и вкось, и ничего ты с этим не сделаешь. Может, все было бы по-другому, если бы ты тогда, я имею в виду, вообще давно, не стал бы выпендриваться, а просто переспал бы со мной, маленькой провинциальной влюбленной дурочкой, — не знаю — разбежались бы, может, а может, жили бы долго и счастливо. Это я не к тому, чтобы повесить на тебя что-то, ты знаешь, у меня бзик на этом. Конечно, ты ни в чем не виноват, ну не хотел и не хотел, подумаешь. Вообще никто не виноват, это чертова жизнь так устроена и все тут. Где-то с самого начала что-то сломалось. Может, еще до нашего рождения. И ты видишь это, пытаешься исправить, говоришь себе: эта хуйня со мной никогда не случится! — и как только пытаешься сделать шаг в сторону, оказывается, что в этой-то стороне вся хуйня и есть. Кто поумнее сказал бы, что это судьба. Хуйня это, а не судьба, нет никакой судьбы. А есть просто логика. Вот такая хуевая, но логика.
Только не надо мне говорить, что я тут разошлась. Ну разошлась, но ты сам виноват, если б не ты, я бы не напилась так, чтобы тут тебе сочинять монологи с матом. Что ты, благородный дон, сделал-то? Ты же не пошел, не убил Петера, не бросил работу, не уехал, меня не убил, не сказал, чтоб я шла куда подальше. И правильно. Правильно, понимаешь, я ничего не могу сказать. У нас контракт, работа, картина почти доснята. Если б ты взбрыкнул вдруг, вот тогда ты был бы идиотом. Но ты молодец, покуражился, набухался-наорался и за работу. Я даже думаю, если честно, что ты специально ждал конца съемок, чтобы не пришлось ставить перед собой вопрос ребром — тварь, типа, я дрожащая или уеду щас в Питер. Потому что тогда пришлось бы уехать, а тебе этого не хотелось, ты же не мог не видеть, что картина в общем складывается.
Вот видишь, опять получается так, будто я тебе рассказываю, какой ты подлый и расчетливый. Я совсем не это хочу сказать. Я хочу сказать, что это такие танцульки, если уж ввязался в них, то будь добр — две шаги налево, три шаги направо, других вариантов просто нет. Противно только, что ты не сам в них ввязываешься, а такое ощущение, что это они тебя в себя ввязывают. Не ты живешь эти сюжеты, а они живут тебя, понимаешь? Если всерьез об этом думать, то возникает вопрос — а ты сам-то где? Если ты начнешь последовательно вычитать из себя все то, что не есть ты — сюжеты, тебе навязанные, чувство вины, в которое тебя вталкивают, вера, которую тебе прививают, я не знаю, любовь к родине, книги, которыми ты пропитался, вот это все, — то в конце концов получается странная вещь: тебя-то и нет! Никак ты не обнаруживаешься, за что ни схватись, все откуда-то в тебе поселилось. Ну вот мясо твое, кости, кровь, жилы, кожа, но и это-то, если уж так смотреть, тоже — все, что ты когда-нибудь съел.
Я об этом думала, когда в Берлине осталась монтировать, а ты улетел. Они там что-то намудрили с контрактом, на монтаж было запланировано в два раза больше времени, чем надо, — то ли перестраховывались, то ли и в самом деле думали, что я еще не знаю, в каком порядке сцены идти будут, в общем, у этих немцев иногда не меньше распиздяйства, чем у нас. Я не стала строить из себя стахановца, приходила на студию к восьми, мы там сидели с Мартой, что-то делали до двух, а потом я уходила. Знаешь, Берлин весной — это что-то совсем особенное. Он реально весь пахнет сиренью, куда ни пойди. Я еще вырвалась наконец из гостиницы, сняла квартиру на Пфлюгер-штрассе, в Кройцберге — восточный Берлин, что ни говори, все-таки симпатичнее западного. Мне в какой-то момент начало казаться, будто я зажила обычной жизнью простой Гретхен, офигенное ощущение — встаешь, идешь в булочную, потом добираешься до студии, что-то там режешь, склеиваешь без суеты, потом обед, идешь по магазинам еды купить, готовишь что-то дома. Я даже телевизор начала смотреть.
Ты, наверное, думал, что раз уехал без окончательного объяснения, так я мучиться буду, страдать от неизвестности и все такое. А я впала в такое умиротворение, не знаю, мне ничего не надо было, только гулять вот так по городу, лежать на газонах, смотреть на народ, заходить в магазинчики, работать по чуть-чуть. В общем, что-то в этом есть. Если б ты приехал тогда, я бы тебе сказала: расслабься, чувак, это все такая фигня, представь, как ты все это будешь вспоминать через сорок лет, когда тебе будет семьдесят, тебе будет не до секса, лишь бы попить чего-нибудь тепленького, ведь вспомнишь это все с улыбкой — не брезгливой, а, ну, благословляющей, что ли, что вот был ты такой молодой и так волновался из-за того, кто с кем спит, знаешь, посмотришь на мальчиков и девочек, которые будут обгонять тебя на улицах, и порадуешься за них, что у них все играет, что у них в запасе еще столько времени. Ну, короче, я будто резко превратилась в такую добрую старушку, только что голубей с кошками не кормила.
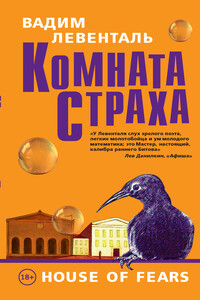
Мало написать «люблю», чтобы читатель понял – герой полюбил, и мало написать «ужас», чтобы у нас по спине рассыпались мурашки. Автор «Комнаты страха» умеет сделать так, чтобы его словам поверили. Сборник малой прозы Вадима Левенталя, блестяще дебютировавшего романом «Маша Регина», открывает новые грани его дарования – перед нами сочинитель таинственных историй, в которых миражи переплетаются с реальностью, а предметы обнажают скрытый в них огонь. Городской нуар и готическая новелла – вот жанры, которым на этот раз отдает дань финалист премии «БОЛЬШАЯ КНИГА» Вадим Левенталь. Завершает книгу повесть «Доля ангелов» – скупо, с ледяным лаконизмом рассказывающая о страшных днях Ленинградской блокады.
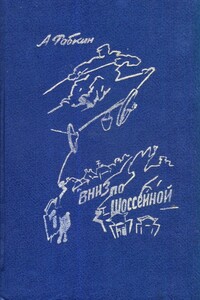
Абрам Рабкин. Вниз по Шоссейной. Нева, 1997, № 8На страницах повести «Вниз по Шоссейной» (сегодня это улица Бахарова) А. Рабкин воскресил ушедший в небытие мир довоенного Бобруйска. Он приглашает вернутся «туда, на Шоссейную, где старая липа, и сад, и двери открываются с легким надтреснутым звоном, похожим на удар старинных часов. Туда, где лопухи и лиловые вспышки колючек, и Годкин шьёт модные дамские пальто, а его красавицы дочери собираются на танцы. Чудесная улица, эта Шоссейная, и душа моя, измученная нахлынувшей болью, вновь и вновь припадает к ней.

Восточная Анатолия. Место, где свято чтут традиции предков. Здесь произошло страшное – над Мерьем было совершено насилие. И что еще ужаснее – по местным законам чести девушка должна совершить самоубийство, чтобы смыть позор с семьи. Ей всего пятнадцать лет, и она хочет жить. «Бог рождает женщинами только тех, кого хочет покарать», – думает Мерьем. Ее дядя поручает своему сыну Джемалю отвезти Мерьем подальше от дома, в Стамбул, и там убить. В этой истории каждый герой столкнется с мучительным выбором: следовать традициям или здравому смыслу, покориться судьбе или до конца бороться за свое счастье.

События, описанные в этой книге, произошли на той странной неделе, которую Мэй, жительница небольшого ирландского города, никогда не забудет. Мэй отлично управляется с садовыми растениями, но чувствует себя потерянной, когда ей нужно общаться с новыми людьми. Череда случайностей приводит к тому, что она должна навести порядок в саду, принадлежащем мужчине, которого она никогда не видела, но, изучив инструменты на его участке, уверилась, что он талантливый резчик по дереву. Одновременно она ловит себя на том, что глупо и безоглядно влюбилась в местного почтальона, чьего имени даже не знает, а в городе начинают происходить происшествия, по которым впору снимать детективный сериал.

«Юность разбойника», повесть словацкого писателя Людо Ондрейова, — одно из классических произведений чехословацкой литературы. Повесть, вышедшая около 30 лет назад, до сих пор пользуется неизменной любовью и переведена на многие языки. Маленький герой повести Ергуш Лапин — сын «разбойника», словацкого крестьянина, скрывавшегося в горах и боровшегося против произвола и несправедливости. Чуткий, отзывчивый, очень правдивый мальчик, Ергуш, так же как и его отец, болезненно реагирует на всяческую несправедливость.У Ергуша Лапина впечатлительная поэтическая душа.
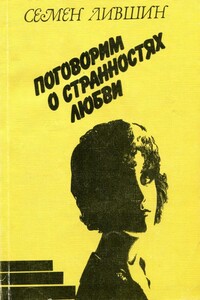
Сборник «Поговорим о странностях любви» отмечен особенностью повествовательной манеры, которую условно можно назвать лирическим юмором. Это помогает писателю и его героям даже при столкновении с самыми трудными жизненными ситуациями, вплоть до драматических, привносить в них пафос жизнеутверждения, душевную теплоту.
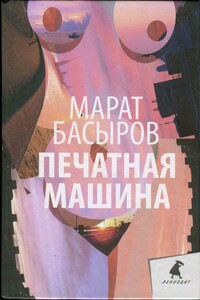
Жан Жене — у французов, Чарльз Буковски — у янки, у России новых времен — Эдуард Лимонов. В каждой национальной литературе найдется писатель, создавший яркий образ экзистенциального бунтаря, в котором олицетворено самосознание если не целого поколения, то значительной его части. Но мир, покинувший лоно традиции, устроен так, что дети не признают идеалов отцов, — каждое поколение заново ищет для себя героя, которому согласно позволить говорить от своего имени. Этим героем никогда не станет человек, застывший в позе мудрости, знающий сроки, ответы на главные вопросы и рецепты успеха.
