Маркиза де Сад: Новеллы. Драмы - [43]
Рем. Вы опоздали на завтрак к рейхсканцлеру. Он уже удалился в рабочий кабинет. Неплохо бы извиниться, а?
Штрассер. Бросьте, Рем. Сейчас не до дворцовых реверансов.
Рем. Ну и черт с вами, поступайте как знаете.
Штрассер. Да, я буду поступать как знаю. (Садится в кресло.) Присядьте-ка.
Рем. Я тоже знаю, как мне поступить. (Во время последующего диалога раздраженно прохаживается взад-вперед.)
Штрассер (смеется). Вы как дитя малое… Будет вам брюзжать. Ведь вы недовольны рейхсканцлером. Вам не нравится, как он ведет себя в последнее время.
Рем. Фу-ты ну-ты, все мои мысли и чувства видит как на ладони. Да мы с Адольфом старые товарищи! А вы, хоть и давно в партии, но его другом никогда не были.
Штрассер. Но сейчас вы в нем разочаровались. Что, не так?
Рем. Да с чего вы взяли?
Штрассер. А с того. И я в нем был разочарован. Он очень, очень мне не нравился. Гитлер-рейхсканцлер — Гитлер, ходящий на задних лапках перед дряхлыми драконами с облезшей чешуей, мне был просто противен… Но теперь я начинаю думать иначе. После моего вчерашнего с ним разговора моя позиция изменилась. Нет, я больше не возмущен Гитлером и не разочарован в нем. Гитлер — молодчина!
Рем (с некоторым интересом). И поэтому вы не соизволили явиться на завтрак?
Штрассер. Нет, не пришел я по другой причине. Подумал, придешь — не дай Бог, еще отравы подсыплет.
Рем. Что за шутки! (Незаметно для себя втягивается в разговор.) Значит, Гитлер — молодчина? Это что, чисто по-человечески или исходя из нынешней ситуации?
Штрассер. А по-всякому. Гитлер сейчас вступил в период, подобного которому не бывало прежде. Новый период нуждается в новой тактике. Требуем мы ее от Гитлера или не требуем — он все равно и сам вынужден к ней прибегать, и чем дальше, тем больше. Я не хочу сказать, что Гитлер действует безупречно, но, во всяком случае, он чувствует ситуацию лучше, чем кто бы то ни было. Вот почему он — молодчина.
Рем. Вы прямо соловьем заливаетесь про этот ваш «новый период». Такой великий революционер расхваливает эпоху всеобщей сумятицы и безверия.
Штрассер. Революция — все, кончилась.
Рем. Я-то это знаю, господин Штрассер. Именно поэтому мы хотим…
Штрассер. Знаю-знаю. Сегодня вы не призываете к новой революции. Ведь вы согласились на мирную передышку.
Рем. Откуда вы…?!
Штрассер. И так ясно. Не бойтесь, я вашу беседу под дверью не подслушивал. У такого опытного политического волка слух исключительно тонкий: я и издалека все слышу… Все решается сейчас. Вы ведь согласны, что революция окончена?
Рем (нехотя). Ну, окончена.
Штрассер. Итак, революции больше нет. Вы стали министром, Гитлер стал рейхсканцлером, а я — я удалился от дел. Каждый занял определенную позицию. Предпосылки такого расклада имелись и прежде… Просто поразительно — никто ни сном ни духом не ожидал, что революция вдруг возьмет и кончится. (С балкона доносится воркование голубей.) Голубки воркуют… Я проходил по коридору, смотрю — стол стоит, неубранный после завтрака. Дай-ка, думаю, захвачу один тост — пташек покормлю. Где он тут у меня? (Шарит в кармане.)…Ах, черт, раскрошился. (Подходит к балконной двери и кормит голубей. Рем садится в кресло.) Ишь, накинулись… Как сияет солнце! Разве во время революции бывает такое утро? Да, не думал я, что доживу до этакого безмятежного, без всякого запаха крови, утра. (Штрассер говорит оперевшись спиной о балконную ограду. Время от времени подбрасывает голубям крошек.) Этого не могло, не должно было произойти. Но в один прекрасный день началось — и все, пошло-поехало. Голуби революции летали под свист пуль, к их лапкам были прикручены листки с боевыми донесениями. Круглую белую грудку в любую минуту могла запачкать алая кровь. А что мы видим теперь? Голубки что-то такое брюзжат, ворчат и мирно поклевывают хлебные крошки… Даже дым из трубы паровоза, мчащегося по путепроводу, напоминает уже не о пороховой гари, а о костерке на пикнике. А когда проходишь под окном, на подоконнике которого хозяйка выколачивает пестрый ковер, вниз сыпятся не засохшие комья крови, а только табачный пепел да грязь с подметок. Или, скажем, бьют часы. Раньше они отстукивали кому-то последний час жизни, а теперь лишь извещают о течении времени: и золотые часы, и даже мраморные, с башни, перестали быть твердыми, они разжижились. Было время, когда женщины носили в своих кошелках вино, чтобы поить раненных бойцов революции, и тогда оно искрилось почище любого рубина. Нынче же вино стало цвета кирпича. Изрытые осколками газоны расцветали роскошными синими цветами, но вот стальных удобрений больше нет, и распускаются сплошь одни паршивые анютины глазки. А песни? Где тот особый надрыв, делавший их похожими на крик отчаяния? Синее небо, отражаясь в широко раскрытых глазах убитых, предвещало новую жизнь, теперь оно похоже на подсиненную воду в корыте для стирки. И табак утратил сладковатый привкус неотвратимой разлуки… Природа, люди, вещи потеряли наполнявшую, питавшую их силу — она ускользает между пальцами. Как воздух, как вода. А сложное сплетение наших острых как бритва нервов как-то обвисло, поистрепалось… Зато в воздухе потянуло новыми ароматами. Знакомый по прошлым годам запашок гниения, когда пригреет солнце и из-под опавшей листвы в лесу вдруг шибанет такой мерзкой тухлятиной. Это падаль, оставшаяся с прошлогодней охоты, — не отыскали псы подстреленной добычи. Гнилостное зловоние распространилось повсюду, от него человеческие пальцы теряют чувствительность, словно их поразила проказа. А ведь было время, когда эти пальцы могли нащупать путь во тьме — безо всяких дорожных указателей и фонарей. Что они могут сегодня — только ставить подпись на чеке да баб тискать. Деградация. Да, каждодневная, невидимая глазу деградация. Не сомневаюсь, Рем, что и вы очень хорошо ее ощущаете. Если настал день, когда скрипка перестает по-настоящему выдавать тремоло, когда знамя больше не изгибается на древке леопардом, когда кофе перестает закипать с той неповторимой, клокочущей яростью, когда бойница в крепостной стене становится не орудийным жерлом, а бельмом, когда не запачканная кровью листовка превращается в рекламный листок, когда сапоги уже не пахнут звериной сыростью, когда звезда утрачивает магнетизм, когда стихи перестают быть паролем… Если такой день настал, Рем, это значит, что революции конец. Революция — время белоснежных клыков, свирепых и чистых. Ослепительно белого оскала молодых ртов — и гневе, и в улыбке. Эпоха сверкающей эмали… А потом наступает эпоха десен. Сначала они красные, но постепенно лиловеют, начинают гнить…

Роман знаменитого японского писателя Юкио Мисимы (1925–1970) «Исповедь маски», прославивший двадцатичетырехлетнего автора и принесший ему мировую известность, во многом автобиографичен. Ключевая тема этого знаменитого произведения – тема смерти, в которой герой повествования видит «подлинную цель жизни». Мисима скрупулезно исследует собственное душевное устройство, добираясь до самой сути своего «я»… Перевод с японского Г. Чхартишвили (Б. Акунина).

Юкио Мисима — самый знаменитый и читаемый в мире японский писатель. Прославился он в равной степени как своими произведениями во всех мыслимых жанрах (романы, пьесы, рассказы, эссе), так и экстравагантным стилем жизни и смерти (харакири после неудачной попытки монархического переворота). В романе «Жизнь на продажу» молодой служащий рекламной фирмы Ханио Ямада после неудачной попытки самоубийства помещает в газете объявление: «Продам жизнь. Можете использовать меня по своему усмотрению. Конфиденциальность гарантирована».

Юкио Мисима — анфан-террибль японской литературы, безусловный мировой классик и писатель, в своем творчестве нисходящий в адовы бездны и возносящийся на ангельские высоты. Самый знаменитый и читаемый в мире из японских авторов, прославился он в равной степени как своими произведениями во всех мыслимых жанрах (романы, пьесы, рассказы, эссе — более ста томов), так и экстравагантным стилем жизни и смерти (харакири после неудачной попытки монархического переворота в день публикации своего последнего романа).«Моряк, которого разлюбило море» — это история любви моряка Рюдзи, чувствующего, что в море его ждет особая судьба, и вдовы Фусако, хозяйки модной одежной лавки; однако развитый не по годам тринадцатилетний сын Фусако, Нобору, противится их союзу, опасаясь потерять привычную свободу…

«Жажда любви», одно из ранних и наиболее значительных произведений Юкио Мисимы, было включено ЮНЕСКО в коллекцию шедевров японской литературы. Действие романа происходит в послевоенное время в небольшой деревушке недалеко от города Осака. Главная героиня Эцуко, молодая вдова, одержима тайной страстью к юному садовнику…
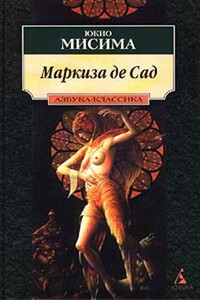
Всемирно известный японский писатель Юкио Мисима (1925-1970) оставил огромное литературное наследство. Его перу принадлежат около ста томов прозы, драматургии, публицистики, критических статей и эссе. Юкио Мисима прославился как тонкий стилист, несмотря на то, что многие его произведения посвящены теме разрушения и смерти.

Один из самых знаменитых откровенных романов фривольного XVIII века «Жюстина, или Несчастья добродетели» был опубликован в 1797 г. без указания имени автора — маркиза де Сада, человека, провозгласившего культ наслаждения в преддверии грозных социальных бурь.«Скандальная книга, ибо к ней не очень-то и возможно приблизиться, и никто не в состоянии предать ее гласности. Но и книга, которая к тому же показывает, что нет скандала без уважения и что там, где скандал чрезвычаен, уважение предельно. Кто более уважаем, чем де Сад? Еще и сегодня кто только свято не верит, что достаточно ему подержать в руках проклятое творение это, чтобы сбылось исполненное гордыни высказывание Руссо: „Обречена будет каждая девушка, которая прочтет одну-единственную страницу из этой книги“.
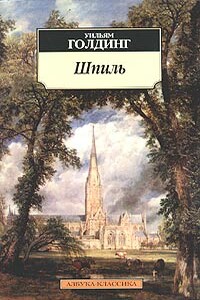
Роман «Шпиль» Уильяма Голдинга является, по мнению многих критиков, кульминацией его творчества как с точки зрения идейного содержания, так и художественного творчества. В этом романе, действие которого происходит в английском городе XIV века, реальность и миф переплетаются еще сильнее, чем в «Повелителе мух». В «Шпиле» Голдинг, лауреат Нобелевской премии, еще при жизни признанный классикой английской литературы, вновь обращается к сущности человеческой природы и проблеме зла.

Самый верный путь к творческому бессмертию — это писать с точки зрения вечности. Именно с этой позиции пишет свою прозу Чингиз Айтматов, классик русской и киргизской литературы, лауреат престижнейших премий. В 1980 г. публикация романа «И дольше века длится день…» (тогда он вышел под названием «Буранный полустанок») произвела фурор среди читающей публики, а за Чингизом Айтматовым окончательно закрепилось звание «властителя дум». Автор знаменитых произведений, переведенных на десятки мировых языков повестей-притч «Белый пароход», «Прощай, Гульсары!», «Пегий пес, бегущий краем моря», он создал тогда новое произведение, которое сегодня, спустя десятилетия, звучит трагически актуально и которое стало мостом к следующим притчам Ч.

В тихом городке живет славная провинциальная барышня, дочь священника, не очень юная, но необычайно заботливая и преданная дочь, честная, скромная и смешная. И вот однажды... Искушенный читатель догадывается – идиллия будет разрушена. Конечно. Это же Оруэлл.
