Мариупольская комедия - [29]
Дуровы, Дуровы!
Папочка-покойник дворянским гербом гордился, фамильной геральдикой. Ан фамилия нынче, на поверку выходило, не шлемами с перьями, не золотыми мечами по зеленому полю, а шутовским колпаком оказывалась прославлена… Вот вам и геральдика, и боярская родословная запись в знаменитой шестой книге российского дворянства.
Шутовской колпак! Так-то, папочка…
В темноте тщетно сопротивлялся ознобу, но взбесившиеся призраки леденящей вьюги уже хоронили его, утаптывали снежный холм, под которым так холодно было, так одиноко…
Но вот ведь странное дело – в могильной этой стуже волнистыми мечами адский пламень пронзал тело, до пергаментной сухости высушивал губы, опалял щеки и лоб, а холод не унимался, сковывал, леденил…
Ни дня, ни ночи не стало. Было – ничто. И беспокойное, стремительное время прекратило свое течение.
Сознание вернулось лишь к вечеру.
Почему-то вместо электричества мерцала стеариновая свеча, и в тусклом, дрожащем свете ее он увидел эскулапа и Елену. Приглушенными голосами, почти шепотом, они говорили о чем-то непонятном, он никак не мог уловить – о чем же? Какая-то вздорная фраза долетела: «Певчие, мадам, нэ обязатэлна»… В конце концов, ему было безразлично, о чем они там шушукаются. Ему хотелось пить, и, выпроставшись из-под одеяла, он сказал:
– Пи-и-ить…
Но выговорил это немо, беспомощно: пи-и-и. Однако его услышали. Елена вскочила, зазвенела стаканом о графин, засуетилась. Эскулап сказал:
– Ну-с… – и потянулся было к Дурову.
– Не надо, – беззвучно покривился больной.
И, помолчав, отворотясь к стене, произнес громко, явственно: «Пора»…
«Что? Что?» – встревоженно, недоуменно переглянулись Елена и эскулап.
– …кончать… комедию, – трудно, задыхаясь договорил Дуров.
Сочинитель микстур понял, что к нему не подступиться, но градусник все же кое-как ухитрился-таки сунуть ему под мышку. Градусник показал сорок и две десятые.
– Вай-вай, – покачал головой эскулап. – Одын бог, мадам… одын бог…
Черный жук пожужжал немного и умолк. В тишине потрескивала свеча и еще какой-то негромко рычащий скрип бог весть откуда доносился.
Снова запеклись, пересохли губы, раскаленным песком обжигало рот. Но не было силы пошевелиться, попросить воды, и страшно казалось обернуться на свет, на злой мигающий глазок нагоревшей, оплывшей свечи.
Мысли, ни на чем не задерживаясь, метались, как испуганные крысы в клетке, и то бестолково шарахались какая куда, то сбивались в неподвижную, чуть шевелящуюся кучу, и невозможно было разобрать, что это за чудовище: тут и там – оскаленные зубы, сотня злобных горящих глаз, хвосты, хвосты, хвосты… Вот – скрежет загадочный, непонятный; вот – длинные языки белого огня; вот – словно горсть мелких камушков швырнули в окно…
А чуть приоткрыл глаза – и на грязных обоях, среди выцветших, полинявших букетиков незабудок и хризантем смутно обозначились очертанья некоего фантастического существа; что-то вроде эмблемы юмористического журнала «Новый Сатирикон» – грузная, толстомясая уродина, не человек, не диковинный зверь-бегемот, смешное и страшное подобие того и другого, но все же с явными, хоть и неуловимыми признаками человека… женщины даже, черт возьми!
Это расплывчатое пятно среди шпалерных цветочков странно напомнило о чем-то скверном и чуть ли не постыдном и неприличном. О чем же? Ах да – женитьба Анатошки!
В грязном сальном пятне на обоях с удивительной точностью угадывалась расплывшаяся фигура восьмипудовой сношеньки, – так ведь она ему нынче доводится?
– Ай да сношенька! Сношенька-голубушка, сношенька-раскрасавица, будь ты неладна!
Борчиха.
Видал, видал он эти омерзительные так называемые дамские чемпионаты. Эту новейшую выдумку бесстыжих балаганных пройдох, темных дельцов, подобных сукину сыну Максимюку.
Так унизить древнее, прекрасное искусство цирка!
Так очернить, замарать.
Так спрофанировать!
Незадолго до войны, в тринадцатом, кажется, в Ярославле, попал на этакое зрелище, а после несколько дней не мог отплеваться – до того гнусны, до того отвратительны, непристойны были эти увиденные груды женского мяса – животов, бедер, толстенных ляжек, грудей, раскормленных задов…
Пыхтенье, шлепки, звериный рык. Ноги-бревна, раскоряченные срамно. Растрепанные прически, космы волос, прилипшие к потным лбам. И уж совсем ужасно – звуки неприличные от натуги или так просто, чтобы посмешить публику.
И публика орала, свистела, ржала, вопила, выражая свой восторг. Трудно, невозможно было вообразить, что эти потные, рычащие существа – женщины, что у них есть любовники, мужья, дети, наконец…
Осторожный стук в дверь обрывает картину ярославского безобразия. Четыре негромких удара грохочущими обвалами обрушиваются в тишину.
Елена почему-то откликается не сразу, лишь на повторный настойчивый стук идет к двери.
– Ах, Лизхен! Битте шён… Я немножка заснуль.
– А я стучу, стучу… Такие новости, милочка, такие новости! Нет, вы просто вообразить себе не можете!
Громким театральным шепотом мама Лиза рассказывает о том, что Ванечка влепил-таки пощечину негодяю, а тот струсил, убежал, спрятался в конторе. И вот теперь Ванечка подговаривает артистов, чтоб в виде протеста против антрепренеровых беззаконий не выходили на манеж, сделали б забастовку. Все ведь знают, до чего подлец довел Анатолия Леонидовича, все ненавидят Максимюка.

Уголовный роман замечательных воронежских писателей В. Кораблинова и Ю. Гончарова.«… Вскоре им попались навстречу ребятишки. Они шли с мешком – собирать желуди для свиней, но, увидев пойманное чудовище, позабыли про дело и побежали следом. Затем к шествию присоединились какие-то женщины, возвращавшиеся из магазина в лесной поселок, затем совхозные лесорубы, Сигизмунд с Ермолаем и Дуськой, – словом, при входе в село Жорка и его полонянин были окружены уже довольно многолюдной толпой, изумленно и злобно разглядывавшей дикого человека, как все решили, убийцу учителя Извалова.

«…– Не просто пожар, не просто! Это явный поджог, чтобы замаскировать убийство! Погиб Афанасий Трифоныч Мязин…– Кто?! – Костя сбросил с себя простыню и сел на диване.– Мязин, изобретатель…– Что ты говоришь? Не может быть! – вскричал Костя, хотя постоянно твердил, что такую фразу следователь должен забыть: возможно все, даже самое невероятное, фантастическое.– Представь! И как тонко подстроено! Выглядит совсем как несчастный случай – будто бы дом загорелся по вине самого Мязина, изнутри, а он не смог выбраться, задохнулся в дыму.
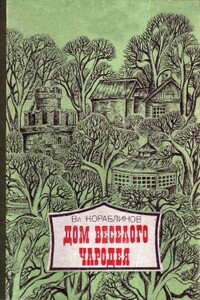
«… Сколько же было отпущено этому человеку!Шумными овациями его встречали в Париже, в Берлине, в Мадриде, в Токио. Его портреты – самые разнообразные – в ярких клоунских блестках, в легких костюмах из чесучи, в строгом сюртуке со снежно-белым пластроном, с массой орденских звезд (бухарского эмира, персидская, французская Академии искусств), с россыпью медалей и жетонов на лацканах… В гриме, а чаще (последние годы исключительно) без грима: открытое смеющееся смуглое лицо, точеный, с горбинкой нос, темные шелковистые усы с изящнейшими колечками, небрежно взбитая над прекрасным лбом прическа…Тысячи самых забавных, невероятных историй – легенд, анекдотов, пестрые столбцы газетной трескотни – всюду, где бы ни появлялся, неизменно сопровождали его триумфальное шествие, увеличивали и без того огромную славу «короля смеха».
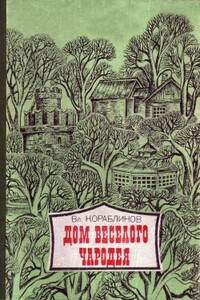
«… После чая он повел Ивана Саввича показывать свои новые акварели. Ему особенно цветы удавались, и то, что увидел Никитин, было действительно недурно. Особенно скромный букетик подснежников в глиняной карачунской махотке.Затем неугомонный старик потащил гостя в сад, в бело-розовый бурун цветущих деревьев. Там была тишина, жужжанье пчел, прозрачный переклик иволги.Садовник, щуплый старичок с розовым личиком купидона, вытянулся перед господами и неожиданно густым басом гаркнул:– Здррравия жалаим!– Ну что, служба, – спросил Михайлов, – как прикидываешь, убережем цвет-то? Что-то зори сумнительны.– Это верно, – согласился купидон, – зори сумнительные… Нонче чагу станем жечь, авось пронесет господь.– Боже, как хорошо! – прошептал Никитин.– Это что, вот поближе к вечеру соловьев послушаем… Их тут у нас тьма темная! …».

«… Под вой бурана, под грохот железного листа кричал Илья:– Буза, понимаешь, хреновина все эти ваши Сезанны! Я понимаю – прием, фактура, всякие там штучки… (Дрым!) Но слушай, Соня, давай откровенно: кому они нужны? На кого работают? Нет, ты скажи, скажи… А! То-то. Ты коммунистка? Нет? Почему? Ну, все равно, если ты честный человек. – будешь коммунисткой. Поверь. Обязательно! У тебя кто отец? А-а! Музыкант. Скрипач. Во-он что… (Дрым! Дрым!) Ну, музыка – дело темное… Играют, а что играют – как понять? Песня, конечно, другое дело.
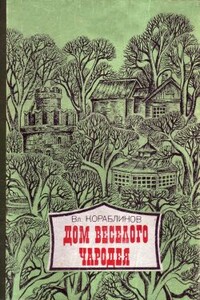
«… На реке Воронеже, по крутым зеленым холмам раскинулось древнее село Чертовицкое, а по краям его – две горы.Лет двести, а то и триста назад на одной из них жил боярский сын Гаврила Чертовкин. Много позднее на другой горе, версты на полторы повыше чертовкиной вотчины, обосновался лесной промышленник по фамилии Барков. Ни тот, ни другой ничем замечательны не были: Чертовкин дармоедничал на мужицком хребту, Барков плоты вязал, но горы, на которых жили эти люди, так с тех давних пор и назывались по ним: одна – Чертовкина, а другая – Баркова.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Валентин Петрович Катаев (1897—1986) – русский советский писатель, драматург, поэт. Признанный классик современной отечественной литературы. В его писательском багаже произведения самых различных жанров – от прекрасных и мудрых детских сказок до мемуаров и литературоведческих статей. Особенную популярность среди российских читателей завоевали произведения В. П. Катаева для детей. Написанная в годы войны повесть «Сын полка» получила Сталинскую премию. Многие его произведения были экранизированы и стали классикой отечественного киноискусства.

Книга писателя-сибиряка Льва Черепанова рассказывает об одном экспериментальном рейсе рыболовецкого экипажа от Находки до прибрежий Аляски.Роман привлекает жизненно правдивым материалом, остротой поставленных проблем.

В книгу известного грузинского писателя Арчила Сулакаури вошли цикл «Чугуретские рассказы» и роман «Белый конь». В рассказах автор повествует об одном из колоритнейших уголков Тбилиси, Чугурети, о людях этого уголка, о взаимосвязях традиционного и нового в их жизни.

Сергей Федорович Буданцев (1896—1940) — известный русский советский писатель, творчество которого высоко оценивал М. Горький. Участник революционных событий и гражданской войны, Буданцев стал известен благодаря роману «Мятеж» (позднее названному «Командарм»), посвященному эсеровскому мятежу в Астрахани. Вслед за этим выходит роман «Саранча» — о выборе пути агрономом-энтомологом, поставленным перед необходимостью определить: с кем ты? Со стяжателями, грабящими народное добро, а значит — с врагами Советской власти, или с большевиком Эффендиевым, разоблачившим шайку скрытых врагов, свивших гнездо на пограничном хлопкоочистительном пункте.Произведения Буданцева написаны в реалистической манере, автор ярко живописует детали быта, крупным планом изображая события революции и гражданской войны, социалистического строительства.
