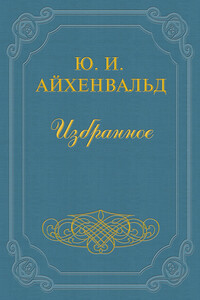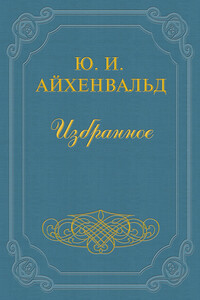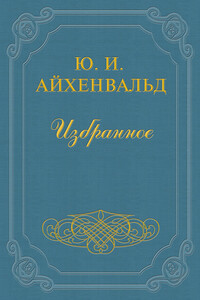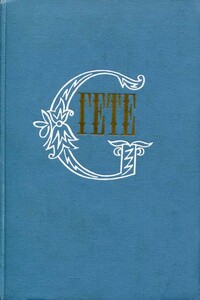Внешне занимательные фабулы нашего автора нередко пронизываются не только этой мыслью о торжествующей, определяющей любви, о любви как откровении, но и другими идеями. Например, дорожит писательница мыслью, что «полезно было бы людей, подобно картам, время от времени перетасовывать», менять их жизненные ситуации, осуществлять человеческий калейдоскоп. Или вот женщина-красавица тайну своей добродетели находит в любви к самой себе: «Мне было так благодарно и радостно, что Бог сделал меня прекрасной… Я подумала, что это нужно хранить и не погубить. То есть не красоту хранить, а себя, чтобы быть ее достойной». Или отмечается роковое «перемещение», в силу которого человек начинает жить не живыми своими клетками, не духом и сознанием, а своей вещественностью и тяготеет к миру неорганическому, перемещает в себе центр, и на этой почве происходит у него странное сближение с вещами, с элементами земли; он любит их, но они враждебны ему, и стихии овладевают им, если в таком взаимном тяготении, любви и вражде он не овладевает ими; как бы то ни было, «нынче уже не человек делает вещи, а вещь делает человека».
Книга Мариэтты Шагинян, озаглавленная «Семь разговоров», менее значительна, менее ярка, чем «Узкие врата», но и на ней лежит та же печать оригинального дарования, острой, порою играющей мысли, большого и многосторонне заинтересованного ума. С особенным вниманием прочтут все первый рассказ – «Семь разговоров», из впечатлений немецкой ссылки, в которую попали герои, застигнутые войной в Германии, высланные в Баден-Баден. Невольные обитатели немецкого города за общим столом пансиона ведут между собою беседы о войне, о характере государства, о смысле истории; и так как собеседники принадлежат к разным национальностям, то это и дает возможность автору развернуть цветную и очень характерную вереницу типов и миросозерцании. – Рождественская сказка о «последнем милитаристе» рисует человека, который уже потому, через два столетия после наших дней, является милитаристом, что, убежденный в пагубности пацифизма для нравственного уровня людей, он объявил войну самому себе, своим слабостям, инстинктам и порокам. Деятели клуба пацифистов всячески убеждали его примириться с собой, – но тщетно. Энтведеродер (так звали последнего милитариста) оставался непреклонен, не хотел прощать самого себя, твердо решил покончить с собой.
И вот он убил мешавшего его самоубийству портного Пинчука; но убитый, с благостным и светлым лицом, в последнее мгновенье простил убийцу, успел вымолвить слово «прощаю». И после этого, потрясенный, не убил себя милитарист, а заплакал над убитым, как еще никогда не плакал. Прощенный другим, он тогда простил самого себя, и он перестал быть милитаристом, когда убил: вот проба, которой не выдержит никакой принципиальный, теоретический милитаризм. – Нравственная идея вытекает и из рассказа «Заповеданное», – та идея, что «кто поступил, тот уступил»: от дурной мысли до дурного поступка – расстояние очень большое, и разница между ними не количественная, а качественная; заповедь охраняет меня, не дает мне совершить дурного действия, и не самая наличность во мне искушения, соблазна осуждает меня, а моя уступка искушению, реализация его. Это – «катехизис» (как замечает один из героев рассказа, журналист Федя, блестящий и передовой ум, речи свои снабжающий множеством цитат, «начиная от Гераклита и кончая Ивановым-Разумником»…); однако в том-то и заключается особенность г-жи Шагинян как автора, что она не стесняется катехизиса, не стыдится старых моральных ценностей и понимает всю привлекательную искренность своих героев и «Головы Медузы», ищущих такого сожительства людей, при котором все получали бы и никто бы не терял (а теперь это не так: «все, что мы получаем, – это не из воздуха, не из материи, не из кассы, а от такого же существа, как мы; кассы в мире не существует»). Но мораль дает Мариэтта Шагинян без морализации; у нее духовная свобода, игра души, легкость изящного рисунка, и в живой, остроумной, искрящейся форме, с налетом тонкой шутливости и лукавства, предлагает она свои духовные драгоценности. У нее – мною писательской изобретательности, выдумки, власти над вниманием читателя; и дорого то, что это соединено с какою-то внутренней благочестивостью; утонченное сливается в ее рассказах с простотой, и, как истинная аристократка, Мариэтта Шагинян не боится показаться мещанкой.