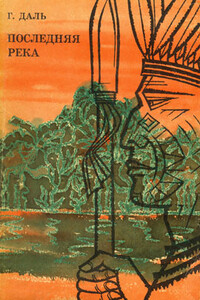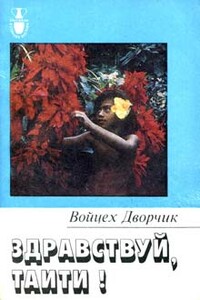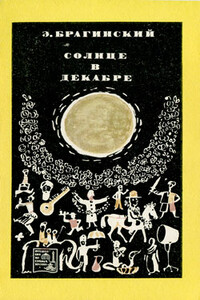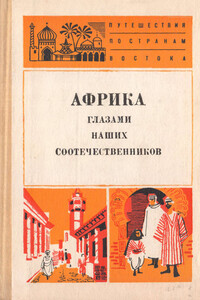— Родной, скорее, скорее!
Тем временем кабан дал тягу. Я быстро опередил его и преградил дорогу. Сильно уставший и оглушенный выстрелом, кабан, видимо, не имел сил броситься на меня; он остановился и сел на задние ноги, стоя на передних, мордой ко мне. Подскакал Осипов; мы встали так, что кабан был между нами.
— Нужно слезть с лошадей и вступить в рукопашную, — сказал я прискакавшему товарищу.
— Слезай! — был ответ.
Мы слезли и бросили лошадей непривязанными. Горько мы потом раскаивались в этом.
— Положим его пулями, — сказал Осипов.
Мы дали по выстрелу, и кабан упал на брюхо, плашмя, подогнув морду. Мы кинулись к нему и за щетины повалили на бок. Зверь пробовал было сопротивляться, но мой кинжал по рукоятку вошел к нему в ребра, около передней лопатки. Кабан вздрогнул, протянул ноги, С минуту еще мышцы его судорожно подергались и все кончилось. Пули из ружей расшибли обе передние лопатки; мой первый выстрел из пистолета пробил кабану ушную кость, пуля прошла сквозь язык и вышла в нижнюю челюсть.
Пока происходила возня с кабаном, лошади наши дали стречка; мы увидали их уже за версту скачущими во весь дух к киргизскому аулу. Нужно было бежать и поймать беглянок во что бы то ни стало, а это не так легко: им могло вздуматься улизнуть восвояси, в форт, и тогда — прощай охота! Осипов как лучше меня владеющий киргизским языком, побежал за лошадьми, а я остался у кабана. Сев верхом на него, я закурил сигару, отдохнут потом зарядил ружье жеребьем и пистолет пулей. Часа через полтора явился Осипов с лошадьми. Оказалось, что он нанял конного киргиза, который и поймал их около табуна, к которому они пристали; но так как заплатить за труды было нечем, то ему пришлось отдать киргизу рубашку.
Стали рассуждать, что нам делать с кабаном и где могли быть наши охотники, которых нигде не было видно. Взлезши на лошадей, мы встали на седлах на ноги: необозримая степь, покрытая белым саваном, сливалась с горизонтом, и на ней не было видно ни души. Мы уже решили снять с узд чумбуры[102], привязать одним концом за морду кабана, а другим — за хвост лошади и таким образом увезти его в лагерь, как вдруг увидели вдали всадника ехавшего к нам трусцой — обыкновенным киргизским аллюром. Всматриваемся, видим — Мантык.
— Ну что, как дела? — спросили мы, когда он подъехал к нам.
Мантык разразился бранью и поведал нам, что только он один убил свинью, гнался за кабаном, но не догнал, из прочих же охотников никто ничего не убил.
— Я послал их к чертям и поехал отыскивать вас, — отчеканил Мантык. — Никто ничего не убил, бабы они, — продолжал он ворчать.
Привязав к хвосту лошади чумбуром кабана за морду, мы поехали в лагерь, где нашли всех охотников. Нарубили камышу развели огонь, стали палить кабана и сварили чаю. Может быть, подумают, что мы поставили самовар или, по меньшей мере, вскипятили воду в дорожном медном чайнике. Нет, мы обходились гораздо проще: вскипятим воду в простом чугунном котле, в котором готовим обед, положим чаю и пьем с хлебом без сахару из тех же деревянных чашек, из которых едим.
Ярко пылал большой костер; мы сидели вокруг огня, вели разговор о завтрашней охоте, а кабана со свиньей переворачивали на огне с одного бока на другой. Вскоре подъехал к нам киргиз, слез с лошади и, положив обе руки на грудь, низко поклонился, произнося: «Асса-ляу маликым!». Мы ответили: «Маликым ссалям!». Пригласили его сесть в наш круг и предложили чаю с хлебом. Но седой старик, как правоверный мусульманин, увидев нечистое животное, отказался от всего. Мы спросили о его здоровье, о здоровье его скота и сами получили от него те же вопросы. Без этой церемонии здешний номад никакого разговора начинать не станет: это необходимая прелюдия всякой беседы с киргизом, но спросить о здоровье жены считается у них верхом неприличия.
После небольшой паузы киргиз стал рассказывать, что к его кибиткам повадился ходить большой кабан, вырывает и пожирает заготовленный ими на зиму запас зернового хлеба, на днях ранил подвернувшуюся корову. а небольшому бычку распорол брюхо, что кабан этот сделался страшен его семейству, его жена и дочери боятся ходить за камышом на топливо и что у них нет средств его отвадить; неподалеку от кибитки кабан устроил гайно[103], на котором его сегодня видела старшая его дочь. Мантык зашевелился, выслушав рассказ, и был готов схватить ружье и бежать с киргизом; но я остановил его и, напомнив, что всего только одиннадцать часов, посоветовал отправиться за кабаном всем вместе после уборки свиней, палившихся на огне. Через час все мы ехали за киргизом и версты через две подъехали к его трем кибиткам, из которых высыпало к нам все его семейство. Все в один голос рассыпались в жалобах на кабана. Потому ли, что я был одет немного лучше других, или моя лошадь была красивее лошадей остальных товарищей по охоте, ко мне подошла девушка и, показывая пальцем в камыш, проговорила очень скоро и звонко, как серебряный колокольчик:
— Я сегодня видела его лежащим в своей постели, пойдем, таксыр[104], я покажу тебе.
— А почему ты знаешь, что я тюря[105]?
Она быстро обвела меня и мою лошадь глазами и еще быстрее отрезала: