Мандарин - [11]
Потрясенный прочитанным, я замер над раскрытой страницей. Эти слова: «Ну так, простой смертный, позвонишь ли ты в колокольчик?» — казалось, подстрекали меня взять его в руки, смеялись надо мной и в то же время завораживали. Я решил читать дальше, но строки расплывались, уползали, точно вспугнутые змеи, и с пустой мертвенно-бледной страницы трауром чернел явный вызов: «Позвонишь ли ты в колокольчик?»
Если бы этот том был достойным изданием «Мишель-Леви», обычно имеющим оранжевый переплет, я бы не почувствовал себя заплутавшим в сказочной чащобе немецкой баллады, а уж увидев со своего балкона поблескивающую в свете газового фонаря портупею сторожевого патруля, тут же закрыл бы книгу, рассеяв тем самым возникшую нервную галлюцинацию. Но этот мрачный фолиант, казалось, источал магическую силу: каждая буква принимала волнующие очертания кабалистических знаков, полных роковой символики; запятые имели нагловатый изгиб хвостов дьяволят, застигнутых врасплох лунным светом; а в стоящем в конце фразы вопросительном знаке мне виделся устрашающий крюк, которым Искуситель гарпунит души тех, кто не спешит найти убежище в неприступной цитадели Молитвы… Какая-то сверхъестественная сила завладевала мною, похищала меня у реальности, у разумного начала, и передо мною замаячили два видения. Одно — старый дряхлый мандарин, умирающий где-то далеко в китайской беседке под ди-линь-ди-линь моего колокольчика, другое — гора сверкающего золота у моих ног! И оба эти видения были столь четки, что я даже видел, как затуманились раскосые глаза старого мандарина, потускнели, точно их припорошил слой пыли, и слышал звон сыплющихся золотых монет. Недвижный и дрожащий, я впился горящими глазами в спокойно лежавший передо мной на французском словаре колокольчик, — волшебный колокольчик! — упомянутый в удивительном фолианте.
Вот в этот-то момент я и услышал донесшийся с другой стороны стола вкрадчивый, но твердый голос, который в полной тишине произнес:
— Ну же, Теодоро, друг мой, ну, протяните руку и позвоните в колокольчик, будьте решительным!
Зеленый абажур, прикрывавший горящую свечу, оставлял в полутьме окружавшие меня предметы. Дрожащей рукой я приподнял его и увидел за столом спокойно сидящего тучного господина в черном. На голове его был высокий цилиндр, обеими руками в черных перчатках он тяжело опирался на ручку зонта. В фигуре сидевшего не было ничего фантастического. Скорее он был ординарен, современен и вполне сошел бы за представителя среднего класса — обычного служащего того же отдела министерства, в каком работал я…
Все своеобразие этого человека, пожалуй, заключено было в жестких, энергичных чертах его бритого лица, крупном, массивном носе, который походил на хищный, изогнутый клюв орла, резко очерченном рте, казавшемся отлитым из бронзы, и вспыхивающих огнем глазах, которые впивались в тебя из-под сросшихся мохнатых бровей. Он был мертвенно-бледен, но кожу его, точно древний финикийский мрамор, испещряли красноватые жилки.
Внезапно мне пришла мысль, что передо мною дьявол, однако разум тут же решительно восстал против подобной нелепой игры воображения. В дьявола я никогда не верил, как, впрочем, никогда не верил и в бога. Но, разумеется, никогда не говорил об этом во всеуслышание и не писал в газетах, чтобы не вызывать неудовольствия властей, обязанных блюсти уважение к этим метафизическим сущностям. А я не верил, что они существуют, они — эти двое, древние как сам мир, добродушные соперники, все время подшучивающие друг над другом; один, убеленный сединами, в голубой тунике, toillete 1 древнего Юпитера, обитающий в светозарных высях, среди двора, куда более сложного по своей иерархии, чем двор Людовика XIV; другой, черный как сажа и с рогами, хитрейший из хитрых, живущий в адском пламени преисподней и представляющий собой обывательскую подделку фигуры Плутона. Нет, я не верил. Не верил. Небо и ад — измышлены обществом и существуют на потребу низов. Я же принадлежу к среднему классу. Я молюсь скорбящей, что правда, то правда, как и заискиваю перед сеньором профессором, чтобы выдержать экзамен, как ищу благосклонности сеньора депутата, чтобы получать свои двадцать тысяч рейсов, а все потому, что я нуждаюсь в покровительстве сверхъестественных сил, чтобы спастись от чахотки, грудной жабы, удара ножа, болотной лихорадки, скользкой апельсиновой корки, ступив на которую, можно упасть и сломать ногу, ну и от прочих бед. Ведь благоразумный человек всеми средствами угодничества — лестью или расшаркиванием — должен торить себе путь от Аркад до самого рая. Заручившись покровительством скорбящей в небесных высях и влиятельного лица в округе, бакалавр может не волноваться за свою судьбу.
А потому, свободный от постыдного суеверия, я бесцеремонно спросил этого типа в черном:
— Так вы действительно советуете мне позвонить в колокольчик?
Чуть-чуть приподняв шляпу и открыв узкий лоб, обрамленный черными жесткими волосами, похожими на волосы легендарного Алкида, он ответил мне следующее, слово в слово:
— Это как хотите, уважаемый Теодоро. Но только получать двадцать тысяч рейсов в месяц — просто позорно. Позорно для общества! Ведь на земле существуют такие удивительные вещи, как, например, бургонские вина, ну хотя бы «Романэ-Конти» пятьдесят восьмого года или «Шамбертен» шестьдесят первого, каждая бутылка которого стоит от десяти до одиннадцати тысяч рейсов, и тот, кто выпьет одну рюмку этого зелья, готов только ради того, чтобы выпить вторую, не колеблясь, пойти на убийство родного отца… А на каких мягких рессорах, да с какой изящной обивкой, делают в Париже и Лондоне экипажи, что лучше разъезжать в них по Кампо-Гранде, чем летать, подобно античным богам на мягких подушках облаков. Не почтите за оскорбление, если я пополню ваши знания, сообщив вам, как сегодня меблируются дома: как, в каком стиле и с каким комфортом. Ведь речь идет именно о. том удовольствии, которое в былые времена именовалось «небесным блаженством». О прочих земных усладах, как, скажем, театр «Пале-Рояль», танцевальный зал «Лаборд» или «Кафе Англе», я просто умолчу, Теодоро… Рискну лишь обратить ваше внимание на одно обстоятельство: на свете есть создания, которых мы именуем женщинами, — нет, не те, которых знаете вы и которых все мы называем девками. В мое время, Теодоро, согласно сказанному на третьей странице Библии, те создания, о которых говорю я, прикрывали свою наготу фиговым листом, и все. Сегодня, Теодоро, фиговый лист сменила своеобразная симфония одежды: изящная и тонкая поэма кружев, батиста, атласа, цветов, драгоценностей, кашемира, газа и бархата… Представьте себе то несказанное удовольствие, которое они доставят пяти перстам христианина, прикоснувшегося к этой ласкающей взор роскоши; ну и, конечно же, вы понимаете, что подобную роскошь для этих самых херувимов не купишь за честно заработанную монету достоинством в пять тостанов… А между тем у этих херувимов есть кое-что и получше, Теодоро, это — их волосы, золотистые или черные, чернее преисподней. Как видите, цвет их волос — своего рода символика двух основных человеческих соблазнов: страсти к драгоценному металлу и стремления к абсолюту, который выше человеческого разумения. Да разве только волосы? А их мраморные плечи, свежие, как покрытые росой лилии; а груди, что послужили моделью великому Праксителю для его знаменитой чаши, имеющей самую чистую и идеальную форму, какую знала античность… Эти груди, по замыслу простодушного Старца (он сотворил не только их, но и весь мир, однако вековая вражда запрещает мне произносить его имя), предназначались для торжественного вскармливания человечества, однако, Теодоро, волноваться не стоит, теперь ни одна даже самая благоразумная мать не посвятит их такому трудному и приносящему вред здоровью занятию, теперь спрятанные в кружевные гнезда и прикрытые газом бальных платьев, они чаруют наш взор, ну и служат еще для кое-каких интимных дел. Приличие не позволяет мне продолжить перечисление всех прочих прелестей этих созданий, в которых и заключена женская губительная сила. К тому же ваши глаза уже блестят… А между тем все эти вещи, Теодоро, совсем не для ваших, ну, совершенно не для ваших двадцати тысяч рейсов в месяц… Признайте, что произнесенные мною слова справедливы: они несут на себе достойную печать правды!..
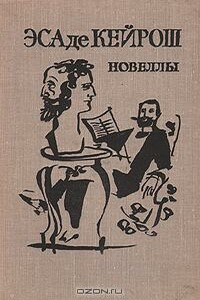
Имя всемирно известного португальского классика XIX века, писателя-реалиста Жозе Мария Эсы де Кейроша хорошо знакомо советскому читателю по его романам «Реликвия», «Знатный род Рамирес», «Преступление падре Амаро» и др.В книгу «Новеллы» вошли лучшие рассказы Эсы, изображающего мир со свойственной ему иронией и мудрой сердечностью. Среди них «Странности юной блондинки», «Жозе Матиас», «Цивилизация», «Поэт-лирик» и др.Большая часть новелл публикуется на русском языке впервые.

Во второй том вошел роман-эпопея «Семейство Майа», рассказывающий о трех поколениях знатного португальского рода и судьбе талантливого молодого человека, обреченного в современной ему Португалии на пустое, бессмысленное существование; и новеллы.

Роман "Реликвия" (1888) — это высшая ступень по отношению ко всему, что было написано Эсой де Кейрошом.Это синтез прежних произведений, обобщение всех накопленных знаний и жизненного опыта.Характеры героев романа — настоящая знойность палитры на фоне окружающей серости мира, их жизнь — бунт против пошлости, они отвергают невыносимую обыденность, бунтуют против пошлости.В этом романе История и Фарс подчинены Истине и Действительности…

Сидя на скале острова Огигия и пряча бороду в руках, всю жизнь привыкших держать оружие и весла, но теперь утративших свою мозолистую шершавость, самый хитроумный из мужей, Улисс, пребывал в тяжелой и мучительной тоске…
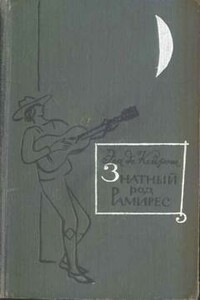
История начинается с родословной героя и рассказа о том, как он пытался поведать миру о подвигах своих предков. А далее следуют различные события с участием главного героя, в которых он пытается продолжить героическую линию своей фамилии. Но Эса де Кейрош как будто задался целью с помощью иронии, лукавства, насмешки, не оставить камня на камне от легенды о героической истории рода, символизирующей историю Португалии.

У меня есть любезный моему сердцу друг Жасинто, который родился во дворце… Среди всех людей, которых я знавал, это был самый цивилизованный человек, или, вернее, он был до зубов вооружен цивилизацией – материальной, декоративной и интеллектуальной.

«Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело отказаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев…».

«Новый замечательный роман г. Писемского не есть собственно, как знают теперь, вероятно, все русские читатели, история тысячи душ одной небольшой части нашего православного мира, столь хорошо известного автору, а история ложного исправителя нравов и гражданских злоупотреблений наших, поддельного государственного человека, г. Калиновича. Автор превосходных рассказов из народной и провинциальной нашей жизни покинул на время обычную почву своей деятельности, перенесся в круг высшего петербургского чиновничества, и с своим неизменным талантом воспроизведения лиц, крупных оригинальных характеров и явлений жизни попробовал кисть на сложном психическом анализе, на изображении тех искусственных, темных и противоположных элементов, из которых требованиями времени и обстоятельств вызываются люди, подобные Калиновичу…».

«Ему не было еще тридцати лет, когда он убедился, что нет человека, который понимал бы его. Несмотря на богатство, накопленное тремя трудовыми поколениями, несмотря на его просвещенный и правоверный вкус во всем, что касалось книг, переплетов, ковров, мечей, бронзы, лакированных вещей, картин, гравюр, статуй, лошадей, оранжерей, общественное мнение его страны интересовалось вопросом, почему он не ходит ежедневно в контору, как его отец…».

«Некогда жил в Индии один владелец кофейных плантаций, которому понадобилось расчистить землю в лесу для разведения кофейных деревьев. Он срубил все деревья, сжёг все поросли, но остались пни. Динамит дорог, а выжигать огнём долго. Счастливой срединой в деле корчевания является царь животных – слон. Он или вырывает пень клыками – если они есть у него, – или вытаскивает его с помощью верёвок. Поэтому плантатор стал нанимать слонов и поодиночке, и по двое, и по трое и принялся за дело…».

Григорий Петрович Данилевский (1829-1890) известен, главным образом, своими историческими романами «Мирович», «Княжна Тараканова». Но его перу принадлежит и множество очерков, описывающих быт его родной Харьковской губернии. Среди них отдельное место занимают «Четыре времени года украинской охоты», где от лица охотника-любителя рассказывается о природе, быте и народных верованиях Украины середины XIX века, о охотничьих приемах и уловках, о повадках дичи и народных суевериях. Произведение написано ярким, живым языком, и будет полезно и приятно не только любителям охоты...

Творчество Уильяма Сарояна хорошо известно в нашей стране. Его произведения не раз издавались на русском языке.В историю современной американской литературы Уильям Сароян (1908–1981) вошел как выдающийся мастер рассказа, соединивший в своей неподражаемой манере традиции А. Чехова и Шервуда Андерсона. Сароян не просто любит людей, он учит своих героев видеть за разнообразными человеческими недостатками светлое и доброе начало.