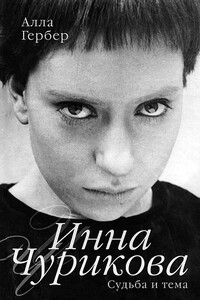Мама и папа - [15]
Но однажды все-таки повезло — перед самым конкурсом имени Чайковского мне доверили беседу с "корифеем советской школы пианизма" (так сказала моя заведующая, которая любила награждать деятелей культуры характеристиками типа "корифей", "аксакал", "основоположник", "родоначальник", "рулевой", "флагман" и т.д.). На сей раз "флагманом" и "рулевым" оказался Генрих Густавович Нейгауз, который обедал в Киеве у моей бабушки и учил играть на рояле не чужую тетю, а мою маму. Знакома я с ним тогда не была и еще не знала, что мама была влюблена в него, а он "чуть-чуть" в нее. К встрече с "корифеем" я тщательно готовилась — надела ситцевое, с большим вырезом платье, в котором казалась себе очень красивой, туфли на самых высоких каблуках, причесалась в парикмахерской на Кузнецком. О том, чтобы почитать, прикинуть, о чем говорить-то буду, я и думать забыла. Мне очень хотелось понравиться "флагману", о чьем обаянии ходили легенды и на концертах которого в консерватории я не раз бывала с мамой. Но мама никогда не заходила к Генриху Густавовичу в артистическую, почему-то всегда торопилась быстрее уйти...
Итак, Москва, лето, Садовое кольцо. Жара 33 градуса. Звоню в дверь, при этом считаю до пяти, чтобы не волноваться.
"Кто там?" — недовольно спрашивает простуженный женский голос.
"Из журнала... о встрече было договорено..." — с несвойственной мне робостью отвечаю я.
Дверь открывает закутанная в толстую шаль маленькая горбатенькая женщина.
"У нас грипп, — с гордостью объявила она. — На улице жара, а у нас... грипп".
Последнее уже без гордости, а с давним смирением, что в этом доме, с этим человеком — все не как у людей. Меня проводят в удлиненную пустую комнату, посередине которой, как в полусне, мерно раскачивалось кресло-качалка. В углу стояла узкая тахта-кушетка, на которой, как показалось сначала, никого не было. Я недоуменно посмотрела на свою спутницу.
"К вам пришли", — недовольно сказала женщина и, чихая, удалилась. В ответ раздались сразу три взрывных чиха, и кушетка зашевелилась. Из-под яркого, небывалого в те годы, знакомого только по романам Диккенса крупноклетчатого шотландского пледа высунулась сначала белая всклокоченная голова, а затем буро-красный нос "корифея", который выбегал на сцену Большого зала стремительной походкой юноши и, взмахнув белой гривой, еле прикасаясь к клавишам, словно вызывая к нам, в Московскую консерваторию, дух Шопена, начинал...
"Садитесь, душенька, и не обращайте на меня никакого внимания... — после чего он, не подымаясь, закапал в нос капли, которые стояли на тумбочке рядом с его тахтой-кушеткой, и весело спросил: — Ну-с, какие новости?"
Так началась наша беседа, где говорила больше я, чем он, потому что он умел спрашивать и слушать, а я тогда не умела ни того, ни другого. Судя по всему, ему до смерти надоело болеть и он был рад возможности поболтать и не спешил меня отпускать. Так, не торопясь, мы наконец подошли к тому, ради чего я сюда пришла, — конкурс имени Чайковского и советские его участники. Среди них был мой двоюродный, а точнее — троюродный брат, но у нас в семье что двоюродные, что троюродные — все едино.
И когда я, наверное, уже в десятый раз довольно настырно спросила: "А что вы, Генрих Густавович, думаете о?.." — Нейгауз кокетливо улыбнулся:
"Вы, душенька, похоже, влюблены в него..."
Мне ничего не оставалось делать, как признаться, что Г. — мой двоюродно- троюродный брат.
"Как брат?!" — удивился Нейгауз, хотя почему, собственно, он не мог быть моим братом.
"Потому что у меня есть тетя", — обиженно ответила я.
"С какой же, позвольте узнать, стороны?" — не унимался Нейгауз, явно заинтересовавшись моей родословной.
"Со стороны мамы", — с некоторым вызовом ответила я.
"Так кто же ваша мама?!" — вскричал Нейгауз с таким неподдельным интересом, как будто я сейчас открою ему неизвестные страницы личной жизни Жорж Санд.
"Моя мама..." — И тут я очень спокойно, совершенно забыв о бабушкиных обедах и маминой консерватории, назвала ему имя и фамилию моей мамы.
"Кто? Кто? Фанни?!" — вскрикнул он, как-то особенно легко и вальяжно произнося непроизносимую для нормального человека девичью фамилию мамы.
Предусмотреть дальнейшее было невозможно. Откинув царским жестом плед (как мантию или рыцарский плащ) и стремительно перейдя из горизонтального положения в сидячее (оказавшись при этом в откровенно сиреневой майке), он вознес руки к небу и красивым молодым голосом торжественно произнес: "Фанни... — дальше следовала невыговариваемая мамина фамилия. — Боже мой! Какая у нее была спина!!!"
Признаться, мне стало не по себе. С одной стороны, я испытала гордость за маму, чью спину запомнил "флагман" и "корифей". С другой — мне было неприятно, что этот сморкающийся и кашляющий старик так интимно вспоминает мою маму (хотя теперь уверена, он не вкладывал в свои слова того интимного смысла, который усмотрела в них я). Но папа только вернулся, и в этом давнем воспоминании Нейгауза мне почудилось покушение на их с мамой личную жизнь.
Теперь я часто думаю, могут ли дети воспринимать своих родителей не просто как мать и отца, а как мужчину и женщину, чьи отношения куда сложнее и непредсказуемее, чем нам, детям, того бы хотелось. В детстве, конечно же, нет. В детстве нельзя понять, а значит, и невозможно простить. Но в пятнадцать-шестнадцать лет, если не спешить, если позволить себе роскошь задуматься, — можно. Так мне кажется... У Гюго в "Отверженных" есть прекрасное выражение — "смиренная мысль", то есть мысль, усмиренная состраданием и пониманием. Именно на своем опыте я поняла, как жесток наш юношеский максимализм, как порой больно бьет "высокая принципиальность", как сурова наша мораль по отношению к родителям и как снисходительна к нам, ее исповедующим. Прав был мой первый редактор, все тот же усталый человек, когда говорил, что "в жизни все не так просто". Действительно, ВСЕ не просто — это стоит запомнить, но не для того, чтобы не решать сложные проблемы (как это любил делать мой редактор), а для того, чтобы не упрощать сложнейшие, переводя их на язык простых чисел, сводя запутанную азбуку жизни к таблице умножения, где дважды два, хоть лопни, хоть тресни, всегда четыре.

Фамилия Чемберлен известна у нас почти всем благодаря популярному в 1920-е годы флешмобу «Наш ответ Чемберлену!», ставшему поговоркой (кому и за что требовался ответ, читатель узнает по ходу повествования). В книге речь идет о младшем из знаменитой династии Чемберленов — Невилле (1869–1940), которому удалось взойти на вершину власти Британской империи — стать премьер-министром. Именно этот Чемберлен, получивший прозвище «Джентльмен с зонтиком», трижды летал к Гитлеру в сентябре 1938 года и по сути убедил его подписать Мюнхенское соглашение, полагая при этом, что гарантирует «мир для нашего поколения».

Константин Петрович Победоносцев — один из самых влиятельных чиновников в российской истории. Наставник двух царей и автор многих высочайших манифестов четверть века определял церковную политику и преследовал инаковерие, авторитетно высказывался о методах воспитания и способах ведения войны, давал рекомендации по поддержанию курса рубля и композиции художественных произведений. Занимая высокие посты, он ненавидел бюрократическую систему. Победоносцев имел мрачную репутацию душителя свободы, при этом к нему шел поток обращений не только единомышленников, но и оппонентов, убежденных в его бескорыстности и беспристрастии.

Заговоры против императоров, тиранов, правителей государств — это одна из самых драматических и кровавых страниц мировой истории. Итальянский писатель Антонио Грациози сделал уникальную попытку собрать воедино самые известные и поражающие своей жестокостью и вероломностью заговоры. Кто прав, а кто виноват в этих смертоносных поединках, на чьей стороне суд истории: жертвы или убийцы? Вот вопросы, на которые пытается дать ответ автор. Книга, словно богатое ожерелье, щедро усыпана массой исторических фактов, наблюдений, событий. Нет сомнений, что она доставит огромное удовольствие всем любителям истории, невероятных приключений и просто острых ощущений.

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Оценки личности и деятельности Феликса Дзержинского до сих пор вызывают много споров: от «рыцаря революции», «солдата великих боёв», «борца за народное дело» до «апостола террора», «кровожадного льва революции», «палача и душителя свободы». Он был одним из ярких представителей плеяды пламенных революционеров, «ленинской гвардии» — жесткий, принципиальный, бес— компромиссный и беспощадный к врагам социалистической революции. Как случилось, что Дзержинский, занимавший ключевые посты в правительстве Советской России, не имел даже аттестата об образовании? Как относился Железный Феликс к женщинам? Почему ревнитель революционной законности в дни «красного террора» единолично решал судьбы многих людей без суда и следствия, не испытывая при этом ни жалости, ни снисхождения к политическим противникам? Какова истинная причина скоропостижной кончины Феликса Дзержинского? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге.
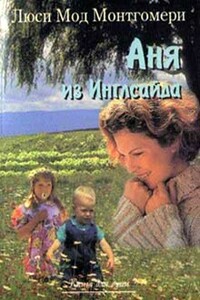
Канада начала XX века… Инглсайд — большой, удобный, уютный, всегда веселый дом — самый замечательный дом в мире, по мнению его хозяйки, счастливой матери шестерых детей. Приятно вспомнить прошлое и на неделю снова стать «Аней из Зеленых Мезонинов», но в сто раз лучше вернуться домой и быть «Аней из Инглсайда». Она стала старше, но она все та же — неотразимая, непредсказуемая, полная внутреннего огня, пленяющая своим легким юмором и нежным смехом. Жизнь — это радость и боль, надежды, страхи и перемены — неизбежные перемены.

Канада начала XX века… На берегу красивейшей гавани острова Принца Эдуарда стоит старый домик с очень романтичной историей. Он становится «Домом Мечты» — исполнением сокровенных желаний счастливой двадцатипятилетней новобрачной. Жизнь с избранником сердца — счастливая жизнь, хотя ни один дом — будь то дворец или маленький «Дом Мечты» — не может наглухо закрыться от горя. Радость и страдание, рождение и смерть делают стены маленького домика священными для Ани.
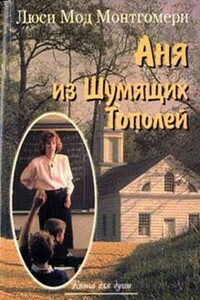
Канада начала XX века… Позади студенческие годы, и «Аня с острова Принца Эдуарда» становится «Аней из Шумящих Тополей», директрисой средней школы в маленьком городке. С тех пор как ее руку украшает скромное «колечко невесты», она очень интересуется сердечными делами других люден и радуется тому, что так много счастья на свете. И снова поворот на дороге, а за ним — свадьба и свой «Дом Мечты». Всем грустно, что она уезжает. Но разве не было бы ужасно знать, что их радует ее отъезд или что им не будет чуточку не хватать ее, когда она уедет?
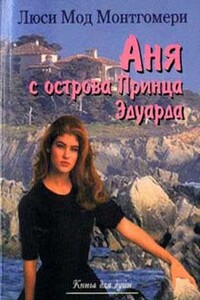
Канада конца XIX века… Восемнадцатилетняя сельская учительница, «Аня из Авонлеи», становится «Аней с острова Принца Эдуарда», студенткой университета. Увлекательное соперничество в учебе, дружба, веселые развлечения, все раздвигающиеся горизонты и новые интересы — как много в мире всего, чем можно восхищаться и чему радоваться! Университетский опыт учит смотреть на каждое препятствие как на предзнаменование победы и считать юмор самой пикантной приправой на пиру существования. Но девичьим мечтам о тайне любви предстоит испытание реальностью: встреча с «темноглазым идеалом» едва не приводит к тому, что Аня принимает за любовь свое приукрашенное воображением поверхностное увлечение.