Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни - [3]
Кое-кто сочтет мою затею самонадеянной или наивной. Второй упрек я приму как комплимент. Что до первого, то, боюсь, он внутренне противоречив. Автор, решившийся писать о добродетелях, сильно рискует: он будет постоянно наносить весьма болезненные раны самолюбию, поскольку сама тема без конца будет служить ему напоминанием о его несовершенствах. Всякая добродетель – это вершина между двумя пороками, это линия хребта между двумя безднами. Храбрость – между трусостью и безрассудством; достоинство – между снисхождением и эгоизмом; мягкость – между гневом и равнодушием[1]. Но кто из нас способен всю жизнь прожить на вершине? Размышлять о добродетелях значит измерять расстояние, которое нас от них отделяет. Размышлять о совершенстве значит отдавать себе отчет в собственных недостатках и убожестве. Это первый и, может быть, единственный шаг, который можно сделать посредством книги. Все остальное – это уже сама жизнь, и никакая книга не способна заменить ее собою.
Из этого вовсе не следует, что в книгах нет пользы, в том числе и нравственной пользы. Размышление о добродетели не делает человека добродетельным, во всяком случае для того, чтобы стать добродетельным, одних размышлений мало. Хотя есть одна добродетель, для развития которой чтение может сыграть заметную роль. Я имею в виду смирение – интеллектуальное смирение перед богатством материала и традиции и собственно нравственное смирение перед нашим очевидным дефицитом добродетелей – почти всех и почти всегда.
Трактат о добродетелях способен принести пользу только тем, кто испытывает в них недостаток. Это предполагает довольно-таки обширную аудиторию и служит оправданием автору, осмелившемуся – не вопреки своим несовершенствам, а благодаря им – обратиться к указанной теме. Огромное удовольствие, с каким я работал над книгой, показалось мне достаточным основанием для ее публикации. Что касается удовольствия читателей, то если они его и получат, то это уже будет своего рода «бонус» – результат не труда, но благодати. Таким читателям – моя искренняя благодарность.
Вежливость
Вежливость – это первая добродетель и, возможно, причина всех прочих. В то же время это самая бедная, самая поверхностная, самая спорная из добродетелей, так что невольно возникает вопрос: а является ли вежливость добродетелью? Во всяком случае, это немного легкомысленная добродетель (примерно в том же смысле говорят о дамах легкого поведения). Вежливость смеется над моралью, как и мораль над вежливостью. Если нацист вежлив, разве перестает он быть нацистом и сеять вокруг себя ужас? Разумеется, нет, и в этом «нет» содержится одна из основных характеристик вежливости. Формальная добродетель, добродетель этикета и внешних приличий – вот что такое вежливость. В сущности, это лишь видимость добродетели.
Если вежливость является ценностью, чего нельзя отрицать, то ценностью двойственной и несамодостаточной; за вежливостью может скрываться как хорошее, так и дурное – вот почему вежливость порой кажется немного подозрительной. Тщательная отделка формы должна что-то скрывать, но вот что? В вежливости есть нечто искусственное, а мы не доверяем искусственности. Она – украшательство, а мы не покупаемся на побрякушки. Дидро где-то говорил об «оскорбительной вежливости» великих мира сего, но сюда же относится и угодливая и
Вежливость – это первая добродетель и, возможно, причина всех прочих. В то же время это самая бедная, самая поверхностная, самая спорная из добродетелей, так что невольно возникает вопрос: а является ли вежливость добродетелью? Во всяком случае, это немного легкомысленная добродетель (примерно в том же смысле говорят о дамах легкого поведения). Вежливость смеется над моралью, как и мораль над вежливостью. Если нацист вежлив, разве перестает он быть нацистом и сеять вокруг себя ужас? Разумеется, нет, и в этом «нет» содержится одна из основных характеристик вежливости. Формальная добродетель, добродетель этикета и внешних приличий – вот что такое вежливость. В сущности, это лишь видимость добродетели.
Если вежливость является ценностью, чего нельзя отрицать, то ценностью двойственной и несамодостаточной; за вежливостью может скрываться как хорошее, так и дурное – вот почему вежливость порой кажется немного подозрительной. Тщательная отделка формы должна что-то скрывать, но вот что? В вежливости есть нечто искусственное, а мы не доверяем искусственности. Она – украшательство, а мы не покупаемся на побрякушки. Дидро где-то говорил об «оскорбительной вежливости» великих мира сего, но сюда же относится и угодливая и раболепная вежливость маленьких людей. Гораздо предпочтительнее выглядело бы презрение без красноречия и покорность без жеманства.
Хуже того. Вежливый мерзавец ничуть не менее мерзок, чем любой другой, а может быть, даже более мерзок. Что нас в нем раздражает? Лицемерие? Вряд ли, ведь вежливость не претендует на моральность. Вежливый негодяй вполне способен быть циником, что не мешает ему оставаться и вежливым, и дурным человеком. Почему же он нас шокирует? Из-за контраста? Вероятно. Только это контраст не между видимостью добродетели и ее отсутствием (это было бы лицемерие), поскольку наш мерзавец предположительно действительно вежлив – впрочем, тот, кто пытается выдать себя за вежливого человека, уже вежлив. Так вот, скорее это контраст между видимостью добродетели (которая в случае вежливости является ее реальностью: сущность вежливости исчерпывается внешней стороной) и отсутствием всех прочих добродетелей, между видимостью добродетели и реальным присутствием пороков, точнее говоря, одного действительного порока – злобы. Если рассматривать этот контраст сам по себе, то в нем больше от эстетики, чем от морали: с его помощью легче объяснить удивление, нежели ужас; изумление, нежели осуждение. Но сюда примешивается и кое-что еще, уже более близкое к этике: вежливость делает негодяя еще более ненавистным, потому что выдает в нем воспитание, без которого его «негодяйство» могло бы показаться простительным. Вежливый мерзавец противостоит хищнику, а на хищников не обижаются. Он противостоит дикарю, а на дикарей тоже не обижаются. Он противостоит наглому, неотесанному, невоспитанному грубияну, в котором, разумеется, нет ничего привлекательного, но чье поведение можно хотя бы объяснить отсутствием культуры, врожденной склонностью к насилию и ограниченностью. Но вежливый негодяй – не хищник, не дикарь и не грубиян; напротив, он хорошо воспитан и образован, он пользуется всеми плодами цивилизации, и поэтому ему нет прощения.
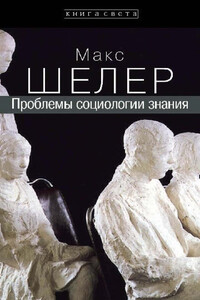
Основную часть тома составляют «Проблемы социологии знания» (1924–1926) – главная философско-социологическая работа «позднего» Макса Шелера, признанного основателя и классика немецкой «социологии знания». Отвергая проект социологии О. Конта, Шелер предпринимает героическую попытку начать социологию «с начала» – в противовес позитивизму как «специфической для Западной Европы идеологии позднего индустриализма». Основу учения Шелера образует его социально-философская доктрина о трех родах человеческого знания, ядром которой является философско-антропологическая концепция научного (позитивного) знания, определяющая особый статус и значимость его среди других видов знания, а также место и роль науки в культуре и современном обществе.Философско-историческое измерение «социологии знания» М.

«История западной философии» – самый известный, фундаментальный труд Б. Рассела.Впервые опубликованная в 1945 году, эта книга представляет собой всеобъемлющее исследование развития западноевропейской философской мысли – от возникновения греческой цивилизации до 20-х годов двадцатого столетия. Альберт Эйнштейн назвал ее «работой высшей педагогической ценности, стоящей над конфликтами групп и мнений».Классическая Эллада и Рим, католические «отцы церкви», великие схоласты, гуманисты Возрождения и гениальные философы Нового Времени – в монументальном труде Рассела находится место им всем, а последняя глава книги посвящена его собственной теории поэтического анализа.
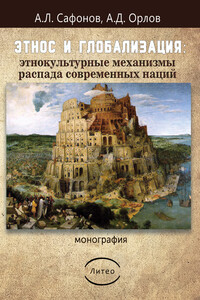
Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.
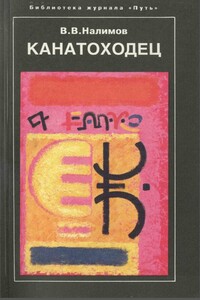
Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.

Книга представляет читателю великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321) как глубокого и оригинального мыслителя. В ней рассматриваются основные аспекты его философии: концепция личности, философия любви, космология, психология, социально-политические взгляды. Особое внимание уделено духовной атмосфере зрелого средневековья.Для широкого круга читателей.
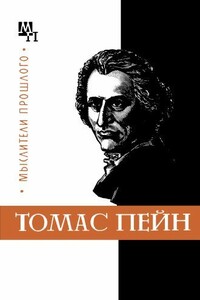
Книга дает характеристику творчества и жизненного пути Томаса Пейна — замечательного американского философа-просветителя, участника американской и французской революций конца XVIII в., борца за социальную справедливость. В приложении даются отрывки из важнейших произведений Т. Пейна.
