Макаровичи - [38]
С темного большого холста в узкой раме глядели две пары глаз, живых - не живых, тянущих к себе случайных людей из безразличного в загадку. И как третья пара глаз, пламена двух свечей желтых.
Под сводами едва выписанными, в сумраке безоконченом сидит кто-то белокудрый. Недвижимый. Круглая спинка кресла тяжелого, как черный нимб вокруг головы молчащей. За креслом близкий гроб на высоком на темно-лиловом. И белая в белом, в гробу приподнявшись, руку тому, белокудрому, подала, в кресле недвижимо сидящему. И взял руку в свою руку. И затихли оба, живые - не живые. И друг другу в глаза не глядят, а глядят оба в одну сторону, вперед, где между ними и людьми живыми родилась тайна забытая.
И замолкал веселый говор беспечно подходивших. И смотрели в эти глаза упорные на лице бледно-желтом и на белом лице. И порою мертвая в гробу женщина казалась живою, так по-живому, так по-людски приподнялась она с подушки кружевной гроба своего. И тогда мертвым казался сидящий в кресле тяжелом. Как изваяние Египта недвижим он. И лицо его, живыми глазами глядящее упорно, как воск свечей тех; тех двух свечей тяжелых, немигающих, в тяжелом серебре подсвечников у гроба в изголовье.
И подходили, и глядели люди нарядные, загадку глаз пили. И отходя, отдыхали.
Ранним утром после ночи бессонной приходил не раз Виктор в залу, где его любовь. В безлюдье залы, сидя на малиновом бархате скамьи, глядел бездумными глазами, покрасневшими от сказки ночного вина, глядел в те глаза, и в те глаза, глядел на те свечи, на восковые. И наемники, прибиравшие залы к часу прихода нарядных гостей, боялись подходить. Пугало сходство лиц. Как двойник того, в черном кресле сидящего, сидел этот, живой, на красном бархате выставочной скамьи. И чуть уловимым родственным сходством шептало из гроба лицо белое.
И подолгу сидел, окаменев перед своим, как перед чужой загадкой. И шатаясь уходил в блеск летнего дня золотого, над водами тихими города-сказки.
- Рано еще. Рано еще.
Шептал о том, что нет второй картины пред очами души. И шептал еще о том, о другом, о живом. И шел, и пропадал за дверьми одиночества. И то не слышал ничего, то слышал железный скрип дверей тех.
Догорели золотые дни Венеции. Продана была картина. Искренним смехом смеялся.
- Оно кстати. Все мы давно Иуды. Давайте сюда ваши итальянские сребреники. Мои волжские на исходе.
Закрыли выставку. Развезли картины по разным путям. Повесил Виктор на стену мансарды большой фотографический снимок своей «Amor». Акварелью кой-где тронул снимок. И в длинные дни опять и опять подходил с кистью на мгновение. И в памяти картину оживляя, прибавлял мазок скучающею рукою.
Хотелось работы. Только осенью стал писать этюды. Погасли на мраморах краски сверкающие, золотом несказанным пронизанные. В темнеющих переходах запахло сыростью склепов. И сыростью склепов сказочной неведомой страны шептали этюды Виктора. Такие уголки выискивал, что не сразу венецианец угадал бы, что то родного города лики мучительные.
Зима подошла.
Не уезжал долго Степа Герасимов. Давно пора к мастеру, в Рим. Не уезжал, лениво писал этюды, летнею памятью мучительно воссоздавая отошедшего золотого бога на непослушных холстах. Не уезжал, будто поджидал кого-то. Из России получал через большие сроки открытки от Юлии. Неопределенно глухо писала иногда про Дивный город на водах.
Показывал иногда Степа Виктору полученную открытку. Но всегда не в день получения. Много позже.
Степа с Виктором по неделям слова не говорили. А дня по два, по три вместе. По кабачкам тогда ходили, кьянти пили, по мертвым каналам думами разноликими черную птицу-змею гнали вперед, все вперед.
Редкие письма Zanetti из Петербурга обоих смешили.
- Пусть его преуспевает.
Каждый день новый опустошал Венецию. Тоска мглистая, трупная гнала запоздавших людей. На вокзал спешили, не оглядываясь и молча, как из зачумленного города, туда, где жизнь понятная и нужная, где звонки трамваев, где хлопанье бичей, где нет домов с заколоченными окнами, где тени отжившего не встают от затхлых вод немых, отравных.
Подошло письмо из Неаполя, от старого богача, купившего «Amor». Спрашивал, написана ли следующая картина «молодого maestro». Где будет выставлена? Когда? Просил прислать, если возможно, снимок. Пространно сообщал отзывы об «Amor» многочисленных своих «друзей, любителей прекрасного».
Улыбнулся в мансарде своей Виктор, на кровати лежа, по-русски пачкая башмаками одеяло. Приподнялся лениво. Стулом близ стоящим в пол постучал. Ожидал недолго. Вошел Степа. Бледный, скукой мертвою томящийся. Без пиджака, в перепачканной красками жилетке своей полосатой.
- Что тебе?
- Ессо![14] Читай!
У окна, утратившего радость недавнюю, читал письмо.
- Поздравляю.
- С чем?
- А вот. За этим ведь звал. А что картины у тебя нет, это твое дело. Да это ничего. Старики и по двадцать лет картину писали.
- Ну, не часто! Если бы так, Рубенсу пришлось бы тысячи три лет прожить.
- А Иванов?
- Брось. Не в том совсем дело, Степа Григорьич. Мне вот тоже картину писать хочется.
- Садись и пиши.
- Ну, я стоя. Сидя и тебе не советую.
Замолчал Степа. В окно смотрит глазами, потерявшими правду свою. Туда, Где сияла недавно сказка. И слышит голос каменный. И кажется ему, что нарочно, чтоб злить его, Степу, уничтожить, слова те каменные падают.
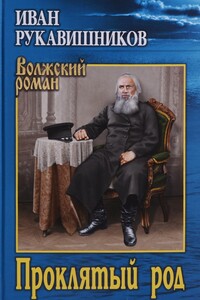
Роман-трилогия Ивана Сергеевича Рукавишникова (1877—1930) — это история трех поколений нижегородского купеческого рода, из которого вышел и сам автор. На рубежеXIX—XX веков крупный торгово-промышленный капитал России заявил о себе во весь голос, и казалось, что ему принадлежит будущее. Поэтому изображенные в романе «денежные тузы» со всеми их стремлениями, страстями, слабостями, традициями, мечтами и по сей день вызывают немалый интерес. Роман практически не издавался в советское время. В связи с гонениями на литературу, выходящую за рамки соцреализма, его изъяли из библиотек, но интерес к нему не ослабевал.

Рукавишников И. С.Проклятый род: Роман. — Нижний Новгород: издательство «Нижегородская ярмарка» совместно с издательством «Покровка», 1999. — 624 с., илл. (художник М.Бржезинская).Иван Сергеевич Рукавишников (1877-1930), — потомок известной нижегородской купеческой династии. Он не стал продолжателем фамильного дела, а был заметным литератором — писал стихи и прозу. Ко времени выхода данной книги его имя было прочно забыто, а основное его творение — роман «Проклятый род» — стало не просто библиографической редкостью, а неким мифом.

Рукавишников И. С.Проклятый род: Роман. — Нижний Новгород: издательство «Нижегородская ярмарка» совместно с издательством «Покровка», 1999. — 624 с., илл. (художник М.Бржезинская).Иван Сергеевич Рукавишников (1877-1930), — потомок известной нижегородской купеческой династии. Он не стал продолжателем фамильного дела, а был заметным литератором — писал стихи и прозу. Ко времени выхода данной книги его имя было прочно забыто, а основное его творение — роман «Проклятый род» — стало не просто библиографической редкостью, а неким мифом.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».

«Мы подходили к Новороссийску. Громоздились невысокие, лесистые горы; море было спокойное, а из воды, неподалеку от мола, торчали мачты потопленного командами Черноморского флота. Влево, под горою, белели дачи Геленджика…».

Из книги: Алексей Толстой «Собрание сочинений в 10 томах. Том 4» (Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1958 г.)Комментарии Ю. Крестинского.

Немирович-Данченко Василий Иванович — известный писатель, сын малоросса и армянки. Родился в 1848 г.; детство провел в походной обстановке в Дагестане и Грузии; учился в Александровском кадетском корпусе в Москве. В конце 1860-х и начале 1870-х годов жил на побережье Белого моря и Ледовитого океана, которое описал в ряде талантливых очерков, появившихся в «Отечественных Записках» и «Вестнике Европы» и вышедших затем отдельными изданиями («За Северным полярным кругом», «Беломоры и Соловки», «У океана», «Лапландия и лапландцы», «На просторе»)

Каждый выживших потом будет называть своё количество атаковавших конвой стремительных серых теней: одни будут говорить о семи кораблях, другие о десяти, а некоторые насчитают вообще два десятка. Как известно: "У страха глаза велики". Более опытные будут добавлять, что это были необычные пираты - уж очень дисциплинировано и организовано вели себя нападавшие, а корабли были как на подбор: однотипные, быстроходные корветы и яхты.

Наш современник попал в другой мир, в тело молодого графа. Мир магии, пара, пороха и электричества, а ещё это мир дирижаблей — воздушных левиафанов. Очередной раз извиняюсь за ошибки. Кому мало моих извинений недостаточно, то считайте, что я художник, я так вижу!