Лютер - [8]
Увы, наряду с этой замечательной методикой, сочетавшей потребности разума и души, помогавшей детям приобщаться к священным тайнам и воспринимать латынь как живой язык, здесь же царила совершенно чудовищная педагогика, практически сводившая на нет все перечисленные достоинства обучения. В школьных классах властвовала ферула[8]. Дурацкий колпак, который в отдельных заведениях благополучно дожил до XX века, конечно, выглядел унизительно, но, нацепленный на голову какого-нибудь особенно упрямого лоботряса, все-таки приносил известную пользу. Гораздо хуже было другое. Мансфельдский наставник, судя по всему, весьма ограниченный, зато наделенный неограниченной властью человек, похожий, впрочем, на многих немецких учителей, сурово карал всех подряд за малейшую провинность, будь то грамматическая ошибка или непослушание. В своих «Застольных речах» Лютер вспоминает, как однажды в один и тот же день за разные проступки 15 раз подвергся «палочному воспитанию». Однако, как мы уже успели убедиться, к такой чрезмерной строгости никому и в голову не приходило относиться как к чему-то из ряда вон выходящему. Разве не к тем же самым «убойным» аргументам прибегали для доказательства своей правоты родители учеников? Чего же следовало ожидать от учителя, который, по сути дела, являл собой их полномочного представителя?
Некоторые историки лютеранства, до небес превозносящие добродетельную строгость набожных родителей Лютера, громко возмущаются теми методами воспитания, которыми пользовались его учителя. Верно, детство его прошло в атмосфере страха и подавленности, но все-таки винить в этом следует прежде всего семью. Именно в семье происходит становление личности ребенка, а школа, при всей своей важности, играет лишь вспомогательную роль. Из собственных признаний Мартина мы узнаем, что отсутствие взаимопонимания с родителями постепенно привело к тому, что в душе его прочно обосновался хронический страх — pusillanimitas. Но поскольку жизнь его протекала в глубоко религиозном мире, где буквально всё — школа, семья, церковный быт — вращалось вокруг идеи долга перед Отцом Небесным, а уклонение от исполнения этого долга неизбежно вело к вечной каре, то неудивительно, что первые же его представления о религии оказались окрашены чувством суровой беспощадности. Образ Отца Небесного преломлялся в его душе в виде бесконечного продолжения облика его собственного, вполне реального, земного отца. «Ребенком, — вспоминал он, — я не мог без тоски читать слова Второго псалма: «Служите Господу со страхом и радуйтесь [пред Ним] с трепетом».
Никто ведь ему не объяснил, что страх, о котором говорится в Писании, следует понимать как почитание Божьей власти, как благодарную признательность, как потрясение перед Его величием, как основу поклонения Богу. Именно поэтому Отцы Церкви и придают этому страху такое значение. Климент Римский называл его «великим и спасительным», Кирилл Александрийский — «очищающим и спасающим», Иоанн Златоуст видел в нем «сокровище, стоящее всех иных богатств». Другие духовные наставники, жившие в ту эпоху, например Диадох Фотийский, Дорофей или Максим, подчеркивали, что следует различать страх новичка, который обращается к Богу, потому что боится наказания, и страх посвященного, который отдается Божьей воле, потому что боится утратить Его любовь.
Вполне возможно, что Мартину Лютеру от природы досталась предрасположенность к пугливости и меланхолии, ведь воспитывали тогда всех одинаково, однако далеко не на всех это воспитание оказало столь решающее влияние. С другой стороны, вероятно, люди, родившиеся с такими же, как у него, задатками, росли и развивались в более спокойной и теплой обстановке. Очевидно одно: суровое воспитание наложило неизгладимый отпечаток на личность Мартина Лютера. Все раннее детство прошло для него без ласки и радостей, под присмотром людей, которые его, конечно, любили, но никогда и ничем эту любовь не проявляли и, заботясь о вечном блаженстве, меньше всего пеклись о его сиюминутном счастье. Они стремились внушить ему верные принципы, но не ведали для этого иных путей, кроме словесного убеждения и строго отмеренного наказания. Разумеется, в таких условиях очень трудно постичь, что Бог — это прежде всего любовь. Болезненное приобщение к христиан-ству в самой нетерпимой его форме состоялось помимо воли Мартина Лютера, но образовавшийся в результате душевный нарыв теперь только начинал зреть. Прорвется он, как мы увидим, гораздо позже, уже в монастыре.
А ведь помимо страха Господня оставался еще страх перед дьяволом! Вспомнив об этом, мы поймем, как тяжело ему приходилось. Дьявол, по представлениям окружавших его крестьян и рудокопов, присутствовал повсеместно. Эти представления, доставшиеся им в наследство от манихейства, хотя сами они об этом, конечно, не подозревали, заставляли их во всех своих несчастьях, включая самые естественные, видеть козни адских сил. Лютер впоследствии вполне серьезно рассказывал, как долго болела его мать, которую сглазила соседка, водившая шашни с бесом. Пришлось идти к соседке на поклон с дарами, и лишь тогда болезнь отступила. Точно так же, когда умер младший брат Мартина, родители и все их знакомые поспешили объяснить загадочную, по их мнению, смерть мальчика порчей.

В литературном наследии Лермонтова поэмам принадлежит особое место. За двенадцать лет творческой жизни он написал полностью или частично (если считать незавершенные замыслы) около тридцати поэм, — интенсивность, кажется, беспрецедентная в истории русской литературы. Он сумел продолжить и утвердить художественные открытия Пушкина и во многом предопределил дальнейшие судьбы этого жанра в русской поэзии. Поэмы Лермонтова явились высшей точкой развития русской романтической поэмы послепушкинского периода.
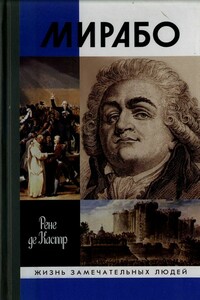
Оноре Габриэль Рикети де Мирабо (1749–1791) — один из наиболее ярких деятелей Великой французской революции, блестящий оратор и публицист, бретер и любимец женщин, узник королевских тюрем и защитник монархии. Посмертное открытие его тайных связей с двором Людовика XVI привело к тому, что прах Мирабо вынесли из Пантеона великих людей Франции. Отношение к нему не раз менялось и в последующие годы. Автор данной книги, известный французский историк Рене де Кастр (1908–1987) видит в своем герое не авантюриста, а гения политики, пытавшегося примирить умеренных республиканцев с монархистами и избежать революционных потрясений, войны и террора.
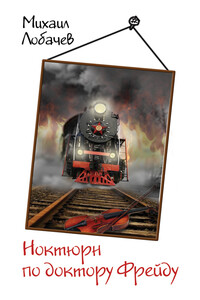
Отчего благополучные люди просыпаются ночью и не могут уснуть?..Эта книга о том, что происходило в Украине со времен Октябрьской революции и по настоящее время. Пока были живы люди, которые делились своими воспоминаниями, казалось, что впереди еще вечность, и можно всегда прийти и послушать их рассказы – как это было на самом деле – про Красную армию, революцию, Вторую мировую войну, перестройку и исчезновение с карты мира СССР – огромной страны, которая во многом определяла мировую геополитику.Когда один за другим из жизни стали уходить люди, бывшие очевидцами тех или иных событий, я понял, что времени у меня не много, и я не имею права забыть и не рассказать об этом другим.

Евгений Львович Шварц, которому исполнилось бы в октябре 1966 года семьдесят лет, был художником во многих отношениях единственным в своем роде.Больше всего он писал для театра, он был удивительным мастером слова, истинно поэтического, неповторимого в своей жизненной наполненности. Бывают в литературе слова, которые сгибаются под грузом вложенного в них смысла; слова у Шварца, как бы много они ни значили, всегда стройны, звонки, молоды, как будто им ничего не стоит делать свое трудное дело.Он писал и для взрослых, и для детей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.