Люда Влассовская - [77]
— У-у, собака-уруска, собака!
Я понимала, что Эйше не могла не ненавидеть меня. Она, как и все другие, считала меня виновницей бегства Израила и Бэллы, главным образом Израила, который, по желанию наиба и муллы, должен был назвать ее, Эйше, своей женой.
Она села передо мной на корточки и смотрела, смотрела на меня не отрываясь своим жгучим, враждебным взглядом.
Так прошел день и наступил вечер… Солнце уже пряталось за горами (я видела это в узкое отверстие кровли над моей головой), когда наконец в молельню вошел старый мулла.
На нем было белое одеяние, прикрытое такой же мантией. Чалма на голове тоже сверкала снежной белизной. Движением руки он выслал Эйше из комнаты и, подойдя ко мне, сказал сурово:
— Ну что же, девушка, надумала ли ты наконец сказать нам всю правду про беглецов?
— Я сказала вам все, что могла сказать, и вы не узнаете от меня ничего больше того, что я уже сказа…
Он не дал мне кончить.
— Ничего? — вскричал мулла в бешенстве. — Если так, то ты получишь заслуженную кару за твое молчание. С утренней зарей ты узнаешь, что значит противиться слуге Аллаха!..
Я помертвела… В свирепом взгляде муллы я прочла, что участь моя решена и что жестокий старик решил покончить со мной навсегда…
Что-то мучительно сжало мне горло… слезы обожгли глаза… Я застонала…
Холод смерти, казалось, уже пронизывает меня… О, как хотелось мне жить, дышать, особенно теперь, в эти минуты! Смерть казалась мне такой нелепой и дикой… Смерть — теперь, в полном расцвете моей молодости и сил! И какая смерть: где-то в забытом ауле, вдали от людей, от руки жестокого муллы!..
Молить, просить о пощаде этого закоренелого фанатика было бы бесполезно. Я оскорбила его, поколебала его значение в глазах целого племени, и это, по его убеждению, требовало возмездия. Никакие просьбы, никакие мольбы не смягчили бы его сердца…
Я была твердо убеждена, что ни бегство Израила и его жены, ни их намерение креститься — все это не так еще восстановило против меня главу аула, как моя победа над ним в деле выздоровления молодого бека. То, что я развеяла его пророчество как дым и показала его ничтожество горцам, этого он никогда не простит мне, и ждать от него пощады бесполезно.
Между тем, позвав Эйше, мулла быстрыми шагами вышел из молельни, закрыв двери на ключ и оставив меня одну в мрачном состоянии смертельного ужаса, одну — молиться и подготавливаться к смерти…
К смерти! Да неужели это так? Неужели правда? Как это странно! Как чудовищно! Как невероятно! Уже одно это слово «смерть» леденило мне душу адским холодом и страхом…
Смерть! Смерть! Смерть!..
Вот что выстукивало мое мучительно бившееся сердце, что повторял с поразительной ясностью мой пылающий мозг, что, казалось, было начертано на потолке и стенах молельни огненными исполинскими кровавыми буквами…
О, какое это было мучительное время!.. Часы тянулись бесконечно долго… Мне казалось, что ночь продолжается целую вечность, эта черная длинная горная ночь…
Я начинала молиться и не могла… Мысли путались, голова горела. А ночь прояснялась понемногу… Чем ближе подходило утро, тем страшнее становилось мне.
Я взглянула на небо… Оно было алое, как пурпур, со стороны востока…
И вдруг брызнул целый сноп солнечных лучей, прорвавшись через яркую полосу зари, и рассеялся, разбился на тысячу искр, заигравших на стенах моей красной комнаты, казавшейся теперь кровавой в этом фантастическом освещении утра.
В ту же минуту тяжелый ковер, служивший дверью, приподнялся, и мулла появился на пороге молельни.
Он был в том же белом одеянии, с той же белоснежной чалмой, окутывавшей его старую голову. Сморщенное лицо его носило следы бессонной ночи. Он схватил мою руку и, дрожа всем телом, повел или, вернее, потащил меня из молельни… Но вдруг он разом остановился на пороге, словно прислушиваясь к чему-то.
Его острый не по летам слух уловил топот нескольких коней, несущихся во весь опор по улицам аула…
Громкое проклятие сорвалось с его уст. Он оттолкнул меня в глубь молельни и бросился со всех ног в другую комнату.
Я замерла на месте, охваченная тоской ожидания… Вот топот все ближе и ближе… Вот всадники подскакали к самой сакле муллы, вот они спешились… говорят, смеются… Я ясно слышу их голоса, родной, милый русский говор…
Один голос показался мне знакомым. Из-за тяжелой ковровой двери я едва могла уловить то, что говорится на дворе… Но вот кто-то из приезжих вошел в саклю. Я услышала ясно бряцание шпор и сильный, гортанный, хорошо мне знакомый голос, говорящий приветствие по обычаю Востока:
— Будь благословен, мулла, в твоем доме.
Сомнений не оставалось: этот голос принадлежал князю Георгию Джавахе.
— Я был сейчас в сакле Хаджи-Магомета, — продолжает голос, — но никого не нашел там. Кунак Магомет в отсутствии? А где больной Израил, сестра Бэлла и русская девушка, которую я отпустил с Хаджи в горы?
— О, ты опоздал, ага, — произнес мулла слащаво, — все они — и Хаджи, и молодой бек с женой, и девушка-уруска, все уехали в Грузию двое суток тому назад.
— Значит, бек Израил выздоровел теперь? — живо спросил князь.
— Слава Аллаху, он здоров, ага, — отвечал мулла дрожащим голосом.

Некрасивая, необщительная и скромная Лиза из тихой и почти семейно атмосферы пансиона, где все привыкли и к ее виду и к нраву попадает в совсем новую, непривычную среду, новенькой в средние классы института.Не знающая институтских обычаев, принципиально-честная, болезненно-скромная Лиза никак не может поладить с классом. Каждая ее попытка что-то сделать ухудшает ситуацию…

Жила в роскошном замке маленькая принцесса Эзольда, хорошенькая, нарядная, всегда в расшитых золотом платьях и драгоценных ожерельях. Словом, настоящая сказочная принцесса — и, как все сказочные принцессы, недовольная своей судьбой.Совсем избаловали маленькую Эзольду. Баловал отец, баловала мать, баловали старшие братья и сестры, баловала угодливая свита. Чего ни пожелает принцесса — мигом исполняется…
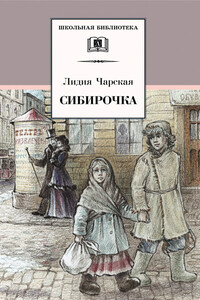
В книгу Л. Чарской, самой популярной детской писательницы начала XX века, вошли две повести: «Сибирочка» и «Записки маленькой гимназистки».В первой рассказывается о приключениях маленькой девочки, оставшейся без родителей в сибирской тайге.Во второй речь идет о судьбе сироты, оказавшейся в семье богатых родственников и сумевшей своей добротой и чистосердечностью завоевать расположение окружающих.Для среднего школьного возраста.
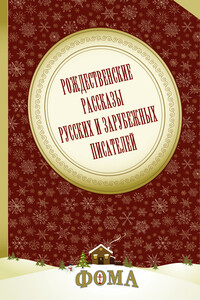
Истории, собранные в этом сборнике, объединяет вера в добро и чудеса, которые приносит в нашу жизнь светлый праздник Рождества. Вместе с героями читатель переживет и печаль, и опасности, но в конце все обязательно будет хорошо, главное верить в чудо.

Повесть о жизни великого подвижника земли русской.С 39 иллюстрациями, в числе которых: снимки с картин Нестерова, Новоскольцева, Брюллова, копии древних миниатюр, виды и пр. и пр.
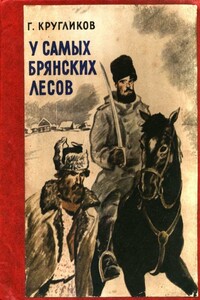
Документальная повесть о жизни семьи лесника в дореволюционной России.Издание второеЗа плечами у Григория Федоровича Кругликова, старого рабочего, долгая трудовая жизнь. Немало ему пришлось на своем веку и поработать, и повоевать. В этой книге он рассказывает о дружной и работящей семье лесника, в которой прошло его далекое детство.

Наконец-то фламинго Фифи и её семья отправляются в путешествие! Но вот беда: по пути в голубую лагуну птичка потерялась и поранила крылышко. Что же ей теперь делать? К счастью, фламинго познакомилась с юной балериной Дарси. Оказывается, танцевать балет очень не просто, а тренировки делают балерин по-настоящему сильными. Может быть, усердные занятия балетом помогут Фифи укрепить крылышко и она вернётся к семье? Получится ли у фламинго отыскать родных? А главное, исполнит ли Фифи свою мечту стать настоящей балериной?
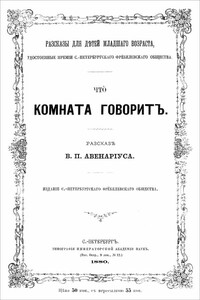
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
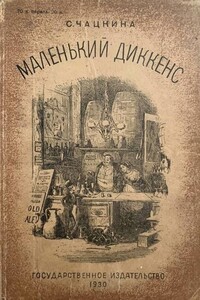
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Русская писательница Лидия Чарская (1875–1937), творчество которой долгие десятилетия было предано забвению, пользовалась в начале века исключительной популярностью и была «властительницей сердец» юных читателей. Вошедшие в книгу повести «Записки институтки» и «Люда Влассовская» посвящены жизни воспитанниц Павловского института благородных девиц, выпускницей которого была и сама писательница. С сочувствием и любовью раскрывает она заповедный мир переживаний, мыслей и идеалов институтских затворниц. Повести Чарской, написанные добротным русским языком, воспитывают чувство собственного достоинства, долга и справедливости, учат товариществу, милосердию, добру.Книга адресована прежде всего юному читателю, но ее с интересом прочтут и взрослые.

В начале XX века произведения Л. Чарской (1875–1937) пользовались необычайной популярностью у молодежи. Ее многочисленные повести и романы воспевали возвышенную любовь, живописали романтику повседневности — гимназические и институтские интересы страсти, столкновение характеров. О чем бы ни писала Л. Чарская, она всегда стремилась воспитать в читателе возвышенные чувства и твердые моральные принципы.

Героиня повести известной писательницы начала XX века Лидии Чарской – девочка-сирота. Много невзгод выпало на ее долю. Эта книга – о настоящей дружбе, верности, чести, о трогательной и нежной привязанности.Для среднего школьного возраста.


![Девять возвращений [Повести и рассказы]](/storage/book-covers/ed/ed7af831d7446cc273c19395f0b07a748a40724c.jpg)