Любовь - [23]
Через несколько недель после завершения романа для меня началась жизнь папы в декрете, и план был, что так продлится аж до следующей весны, чтобы Линда доучилась в Театральном институте. Работа над романом ухудшила наши отношения, я шесть недель ночевал в кабинете, едва видел Линду и пятимесячную дочку, и когда это закончилось, Линда обрадовалась и вздохнула с облегчением; я знал, что в долгу перед ней, что ей не хватало меня — не только моего физического присутствия дома, но и внимания к проблемам, включенности в заботы, разделения их. Все это я запорол. Несколько месяцев я оплакивал утрату того, прежнего состояния холодной ясности, и тоска по нему пересиливала радость от теперешней жизни. И что роман пошел на ура, дела не меняло. Каждую очередную хорошую рецензию я отмечал в записной книжке крестиком и начинал ждать следующую, после каждого разговора с агентом моего издательства о том, что очередное иностранное издательство заинтересовалось романом или заплатило аванс, я ставил в книжке галочку и ждал следующего, и когда потом роман номинировали на премию Северного совета[3], я отнесся к новости безразлично, потому что если я за эти полгода что-нибудь и понял, то лишь одно: суть писательства исключительно в писательстве. Ценно только оно само. Тем не менее я хотел получить как можно больше всего, что к писательству прилагается, поскольку публичное внимание к тебе — наркотик: потребность, которую он удовлетворяет, искусственна, но кто раз попробовал, тому хочется еще. И вот я нарезал бесконечные круги с коляской по Юргордену, а сам ждал, когда уже зазвонит телефон и журналист попросит об интервью, или меня пригласят выступить, или закажут текст для журнала, или агенту понадобится обсудить стоимость иностранных прав, пока неприятное чувство, неизменно остававшееся у меня после всех этих интервью и выступлений, все же не перевесило и я не стал отказывать всем подряд; одновременно интерес ко мне схлынул, и остались простые будни. Как ни силился, я не мог в них встроиться, по-настоящему важным оставалось другое. Ванья сидела, глазея по сторонам, в коляске, которую я катил туда-сюда по городу; Ванья сидела в песочнице на детской площадке в Хюмлегордене и копала совком, пока худые высокие стокгольмские мамочки, стройными рядами окружавшие нас, беспрерывно разговаривали по телефону, а выглядели как будто, блин, у нас тут модный показ; Ванья сидела пристегнутая в своем высоком стульчике дома на кухне и глотала еду, которой я ее кормил. Мне все это казалось скучным до безумия. Я чувствовал себя придурком, разговаривая с ней вслух: поскольку она ничего не отвечала, то диалог состоял из моего идиотского голоса и ее молчания либо агуканья или плача, так что приходилось снова ее запаковывать и тащиться с ней, например, в Музей современного искусства на Шеппсхольмене, где я, по крайней мере, мог совместить пригляд за ней с рассматриванием картин, или в какой-нибудь большой книжный в центре, на худой конец в зоопарк Юргорден или на Брюннсвикен — ближайшую к городу природу, или отправиться в долгий путь к Гейру, у него в то время кабинет был в университете. Технику ухода за ребенком я шаг за шагом освоил в полном объеме, абсолютно любую вещь я мог сделать на пару с Ваньей, нас носило повсюду, но как бы ловко я с ней ни управлялся, сколь ни велика была моя к ней нежность, — скука и апатия все равно пересиливали. Важно было уложить ее спать, чтобы самому тем временем почитать, и дотянуть день, чтобы зачеркнуть его в календаре. В городе не осталось ни одного не известного мне кафе, даже в самых глухих местах, и ни одной скамейки, на которой я бы ни разу не читал книжку, другой рукой качая коляску. Я таскал с собой Достоевского, сперва «Бесов», потом «Братьев Карамазовых». В нем я снова нашел свет. Не тот высокий, ясный и чистый, как у Гёльдерлина, — нет, у Достоевского ни вершин, ни гор, никакой божественной перспективы, все происходит в человеческом измерении и проникнуто неподражаемым достоевским духом бедности, грязи, болезни, скверны, как правило тяготеющим к истерии. Вот там свет и светит. И шевелится божественное. Неужто надо спуститься туда? И стать на колени? Я, как обычно, сначала просто читал, не думал, а вживался, но спустя несколько дней и несколько сот страниц все, что исподволь тщательно простраивалось, постепенно заработало как слаженная система, напряжение скакнуло вверх, текст затянул меня полностью, с головой и потрохами, и только он подхватывал и уносил меня, как Ванья в глубине коляски открывала глаза и с некоторым, как я воспринимал, подозрением вперивалась в меня: ну и куда ты поперся со мной на этот раз?
Оставалось только вытащить ее из коляски, достать ложку, баночку с питанием и слюнявчик, если дело происходило в помещении, или зайти в ближайшее кафе, если мы гуляли по улице, посадить ее в высокий стул и пойти на кассу, попросить, чтобы разогрели ее еду, на что они соглашались обычно со скрипом, потому что в то время город кишел младенцами: беби-бум уже начался, и поскольку среди матерей было много женщин за тридцать, успевших поработать и пожить собственной жизнью, то появились глянцевые журналы для мам; здесь дети шли по разряду аксессуаров, светские звезды одна за другой фотографировались со своими малышами и раздавали интервью о своей семейной жизни. Приватность вышла в общий доступ. Повсеместно писали о схватках, кесаревом сечении, грудном вскармливании, плюс давали советы, как путешествовать с маленькими детьми, как выбирать для них одежду, коляску и прочее, плюс издавали книги, написанные отцами в декрете и недовольными жизнью матерями; последние чувствовали себя обманутыми, поскольку ходить на работу, имея маленького ребенка, утомительно. Дети, прежде считавшиеся обычным делом, о котором и говорить особенно нечего, теперь переместились в центр мироздания и обсуждались с таким жаром, что глаза на лоб лезли: неужели они это серьезно? Посреди этого безумия я и катал коляску со своим ребенком в качестве одного из множества отцов, очевидно ставивших отцовство превыше всего. В любом кафе, где я кормил Ванью, всегда обнаруживался минимум еще один отец с младенцем, обычно он был моего возраста, то есть лет тридцати пяти, почти обязательно бритый наголо, чтобы скрыть первые признаки выпадения волос, ни залысины, ни конские хвосты практически не встречались, и от вида этих отцов мне всегда становилось не по себе, меня коробила феминизированность их и того, чем они занимались, хотя я занимался тем же самым и был феминизирован ровно в той же степени. Легкое презрение, с которым я смотрел на мужчин с детскими колясками, было, мягко говоря, обоюдным, поскольку обычно я одаривал их этим взглядом, толкая перед собой свою коляску. Причем я подозревал, что не один мучаюсь этим чувством, мне случалось видеть его в беспокойных глазах мужчин на детской площадке и в той жадности, с которой они успевали сделать пару жимов на детских снарядах, пока дети носились вокруг. Провести несколько часов в день на площадке со своим ребенком — это не конец света. Были вещи похуже. Линда успела начать ходить с Ваньей на ритмику для малышей в Стокгольмскую общественную библиотеку и настаивала, чтобы мы продолжали занятия и когда в декрет сел я. Чутье мне подсказывало, что ничего хорошего там меня не ждет, поэтому я наотрез отказался: нет, и все, теперь за Ванью отвечаю я, и о ритмике можно сразу забыть. Но Линда продолжала твердить о ней, и за несколько месяцев моя способность сопротивляться столь расширительному толкованию активного отцовства кардинально снизилась, а Ванья настолько подросла, что ей требовалось разнообразие; и вот однажды я сказал — да, завтра мы пойдем на ритмику в библиотеку. Приходите пораньше, ответила Линда, там много желающих. Пополудни на следующий день я уже вез Ванью вверх по Свеавеген, на Уденгатан я перешел на другую сторону и вошел в двери библиотеки, до которой почему-то раньше не доходил, хотя это одно из самых красивых в городе зданий, его спроектировал Асплунд в двадцатых годах двадцатого века — мой самый любимый период того столетия. Ванья была сытая, довольная, переодетая во все чистое — тщательно и продуманно выбранное для такого случая. Я вкатил коляску в огромный, совершенно круглый главный зал, спросил женщину за стойкой, где тут детское отделение, следуя ее инструкциям, дошел до соседнего крыла, заставленного полками с детскими книгами, в конце которого на двери висело объявление, что в два часа тут начнется музыкальное занятие для детей. Три коляски уже были припаркованы у двери. На стульях рядом сидели их владелицы — три женщины лет тридцати пяти утомленного вида в мешковатых куртках; сопливый молодняк, ползавший вокруг, очевидно, был их детьми.

Карл Уве Кнаусгор пишет о своей жизни с болезненной честностью. Он пишет о своем детстве и подростковых годах, об увлечении рок-музыкой, об отношениях с любящей, но практически невидимой матерью – и отстраненным, непредсказуемым отцом, а также о горе и ярости, вызванных его смертью. Когда Кнаусгор сам становится отцом, ему приходится искать баланс между заботой о своей семьей – и своими литературными амбициями. Цикл «Моя борьба» – универсальная история сражений, больших и малых, которые присутствуют в жизни любого человека.
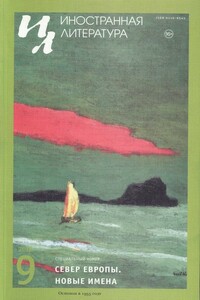
Стремясь представить литературы четырех стран одновременно и как можно шире, и полнее, составители в этом разделе предлагают вниманию читателя smakebit — «отрывок на пробу», который даст возможность составить мнение о Карле Уве Кнаусгорде, Ингер Кристенсен и Йенсе Блендструпе — писателях разных, самобытных и ярких.

«Детство» — третья часть автобиографического цикла «Моя борьба» классика современной норвежской литературы Карла Уве Кнаусгора. Писатель обращается к своим самым ранним воспоминаниям, часто фрагментарным, но всегда ярким и эмоционально насыщенным, отражающим остроту впечатлений и переживаний ребенка при столкновении с окружающим миром. С расстояния прожитых лет он наблюдает за тем, как формировалось его внутреннее «я», как он учился осознавать себя личностью. Переезд на остров Трумейя, начальная школа, уличные игры, первая обида, первая утрата… «Детство» — это эмоционально окрашенное размышление о взрослении, представленное в виде почти осязаемых картин, оживающих в памяти автора.

Четвертая книга монументального автобиографического цикла Карла Уве Кнаусгора «Моя борьба» рассказывает о юности главного героя и начале его писательского пути. Карлу Уве восемнадцать, он только что окончил гимназию, но получать высшее образование не намерен. Он хочет писать. В голове клубится множество замыслов, они так и рвутся на бумагу. Но, чтобы посвятить себя этому занятию, нужны деньги и свободное время. Он устраивается школьным учителем в маленькую рыбацкую деревню на севере Норвегии. Работа не очень ему нравится, деревенская атмосфера — еще меньше.
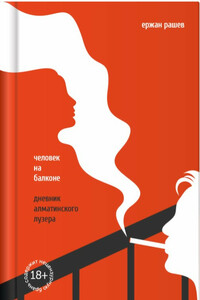
«Человек на балконе» — первая книга казахстанского блогера Ержана Рашева. В ней он рассказывает о своем возвращении на родину после учебы и работы за границей, о безрассудной молодости, о встрече с супругой Джулианой, которой и посвящена книга. Каждый воспримет ее по-разному — кто-то узнает в герое Ержана Рашева себя, кто-то откроет другой Алматы и его жителей. Но главное, что эта книга — о нас, о нашей жизни, об ошибках, которые совершает каждый и о том, как не относиться к ним слишком серьезно.

Петер Хениш (р. 1943) — австрийский писатель, историк и психолог, один из создателей литературного журнала «Веспеннест» (1969). С 1975 г. основатель, певец и автор текстов нескольких музыкальных групп. Автор полутора десятков книг, на русском языке издается впервые.Роман «Маленькая фигурка моего отца» (1975), в основе которого подлинная история отца писателя, знаменитого фоторепортера Третьего рейха, — книга о том, что мы выбираем и чего не можем выбирать, об искусстве и ремесле, о судьбе художника и маленького человека в водовороте истории XX века.
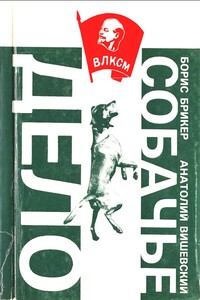
15 января 1979 года младший проходчик Львовской железной дороги Иван Недбайло осматривал пути на участке Чоп-Западная граница СССР. Не доходя до столба с цифрой 28, проходчик обнаружил на рельсах труп собаки и не замедленно вызвал милицию. Судебно-медицинская экспертиза установила, что собака умерла свой смертью, так как знаков насилия на ее теле обнаружено не было.

Восточная Анатолия. Место, где свято чтут традиции предков. Здесь произошло страшное – над Мерьем было совершено насилие. И что еще ужаснее – по местным законам чести девушка должна совершить самоубийство, чтобы смыть позор с семьи. Ей всего пятнадцать лет, и она хочет жить. «Бог рождает женщинами только тех, кого хочет покарать», – думает Мерьем. Ее дядя поручает своему сыну Джемалю отвезти Мерьем подальше от дома, в Стамбул, и там убить. В этой истории каждый герой столкнется с мучительным выбором: следовать традициям или здравому смыслу, покориться судьбе или до конца бороться за свое счастье.

Взглянуть на жизнь человека «нечеловеческими» глазами… Узнать, что такое «человек», и действительно ли человеческий социум идет в нужном направлении… Думаете трудно? Нет! Ведь наша жизнь — игра! Игра с юмором, иронией и безграничным интересом ко всему новому!
