Любовь и знамя - [3]
Катя улыбнулась: она знала, что у Павлика нет часов, как и у всех нас.
— А на моих без пятнадцати двенадцать, — сказал я.
Катя сумрачно покосилась на меня, её скулы источали мороз. И тут, перехватив мой взгляд, она звонко рассмеялась: уличные часы, прикрепленные к фонарному столбу справа от памятника Тимирязеву, показывали без четверти двенадцать.
Блестящая острота вернула мне расположение Кати, снова отбросив Павлика в арктические льды.
Через несколько минут мы смешались с пионерской толпой, осаждавшей двери Театра Революции, а потом, подвластные голосу вожатого и держась по-прежнему вместе, бесконечно долго поднимались по каким-то лестницам, сперва широким, пологим, нарядным, затем — поуже, покруче, поскромней, наконец — вроде наших чердачных, только кошками не воняло. Через низенькую дверцу мы проникли под самую крышу театрального здания: вот потолок, вот люстра, а за краем барьерчика с сеткой — глубочайший колодец. Серо-желтыми, с выблеском, столбами застыли толстые складки занавеса.
Я пробежал взглядом сверху вниз по этим складкам, что-то оборвалось у меня в животе, и на всю жизнь привязался ко мне страшно-сладкий сон. Я сижу в театре на галерке, в первом ряду, ничем не защищенном от глубокого черного провала. На сцене творится прекрасное зрелище, но я ничего не вижу, кроме зияющей под ногами бездны. Острый зуд охватывает тело, я пытаюсь отодвинуться от дыры, но тщетно: сзади напирает нечто, не имеющее ни образа, ни определения, не дает мне выгадать ни вершка безопасности. Я в ужасе кричу, просыпаюсь и на грани пробуждения испытываю ни с чем не сравнимое счастье. Но счастье принадлежит уже полуяви, а сон — болезни, именуемой боязнью высоты.
Странно, но я совсем не боюсь высоты. Более того, высота меня привлекает, не манит болезненно, а радостно влечет, как все хорошее: луг, поляна, лес, река. На высоте легко дышится, свежий ветер обдувает виски, с высоты дальше и шире видится. И все же без малого сорок лет меня навещает то чаще, то реже ужасный сон о колодце театрального зала, я кричу, просыпаюсь и чувствую счастье.
В этом счастье — бессознательная память о том, что я целовал Катю. Тайно целовал в голову, она и не чувствовала, — впрочем, как знать, может, и чувствовала, только не показывала виду? Иначе почему она вдруг так затихла, замерла?
Нам достались места в последнем ряду, откуда вовсе ничего не видно, и мы заняли свободные откидные стулья впереди, а Катя пристроилась у самого барьера, прямо на полу. Мне стоило чуть нагнуть голову, чтобы коснуться лицом ее волос. Далеко внизу, на полутемной сцене, двигались с неживой четкостью заводных игрушек крошечные фигурки в солдатской форме. Слова к нам почти не долетали, только музыка и выстрелы, мы смотрели словно бы пантомиму. Давали «Первую Конную» Всеволода Вишневского. Постановщик спектакля пользовался обобщенными символическими образами, а дети начисто лишены той детской наивности, что позволяет взрослым людям цивилизованного общества и дикарям Соломоновых островов чутко отзываться условному искусству. Театр гудел, кашлял и чихал, будто все разом простудились. Мне же было скучно лишь вначале, когда я пытался постигнуть происходящее на дне колодца. А затем я понял, что нечего мне высматривать чудо вдалеке, когда оно у самых моих глаз.
Зачем понадобилось Кате крючиться на полу в мучительно неудобной позе? Быть может, она смутно ожидала того, к чему я продирался сквозь страх, трепет, смятение? Конечно, она не знала, что ее ждет — слова, прикосновение или просто стук сердца, но такой громкий, что она услышит. Да нет, при чем тут знание — нерассуждающий и безошибочный инстинкт заставил ее втиснуться между мной и барьером.
Наклонившись к ее голове, я вдыхал слабый, чистый, теплый запах. Я забыл об окружающем, о бедном Павлике, сидящем сзади, и коснулся лицом ее волос, ощутил их губами, но поцеловал скорее воздух над ними, нежели их легкую субстанцию. Со сцены послышалась жаркая пальба, взметнулся и погас огонь, дав прибыток тьмы, мой рот приник к тверди и теплу Катиного темени. Я уже не понимал — на театре или во мне самом творятся гром и вспышки. Внезапное ликование уступило место щемящей жалости. Катя казалась такой маленькой и беззащитной, я погибал в сладком сострадании к ней. И уже не лицо мое, а весь я потонул в Катиных волосах.
На сцене отстрелялись, и в зале забрезжил свет…
От театра к Красной площади мы шли четким строем. Гремели барабаны, колыхались, рдели знамена, сверкали золотом кистей и наконечников древка. Милиция сдерживала поток машин, телег и пролеток, глазели потрясенные прохожие. Подвластная нашему движению, замирала Москва. Я совсем забыл о любви, — «то, что в мир приносит флейта, то уносит барабан». Катя и сама будто отодвинулась в тень. Она понимала, что несет на Красную площадь лишь свое беспечное девичье сердце, а мы — душу будущих солдат. Наше поколение воспитывалось на песнях гражданской войны. И едва лишь брусчатка, выстилавшая площадь, ложилась под ноги, мы становились воинами и мечтали погибнуть в бою. У слишком многих из нас эта мечта сбылась…

Молодая сельская учительница Анна Васильевна, возмущенная постоянными опозданиями ученика, решила поговорить с его родителями. Вместе с мальчиком она пошла самой короткой дорогой, через лес, да задержалась около зимнего дуба…Для среднего школьного возраста.

В сборник вошли последние произведения выдающегося русского писателя Юрия Нагибина: повести «Тьма в конце туннеля» и «Моя золотая теща», роман «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя».Обе повести автор увидел изданными при жизни назадолго до внезапной кончины. Рукопись романа появилась в Независимом издательстве ПИК через несколько дней после того, как Нагибина не стало.*… «„Моя золотая тёща“ — пожалуй, лучшее из написанного Нагибиным». — А. Рекемчук.

В настоящее издание помимо основного Корпуса «Дневника» вошли воспоминания о Галиче и очерк о Мандельштаме, неразрывно связанные с «Дневником», а также дается указатель имен, помогающий яснее представить круг знакомств и интересов Нагибина.Чтобы увидеть дневник опубликованным при жизни, Юрий Маркович снабдил его авторским предисловием, объясняющим это смелое намерение. В данном издании помещено эссе Юрия Кувалдина «Нагибин», в котором также излагаются некоторые сведения о появлении «Дневника» на свет и о самом Ю.

Дошкольник Вася увидел в зоомагазине двух черепашек и захотел их получить. Мать отказалась держать в доме сразу трех черепах, и Вася решил сбыть с рук старую Машку, чтобы купить приглянувшихся…Для среднего школьного возраста.

Семья Скворцовых давно собиралась посетить Богояр — красивый неброскими северными пейзажами остров. Ни мужу, ни жене не думалось, что в мирной глуши Богояра их настигнет и оглушит эхо несбывшегося…

Довоенная Москва Юрия Нагибина (1920–1994) — по преимуществу радостный город, особенно по контрасту с последующими военными годами, но, не противореча себе, писатель вкладывает в уста своего персонажа утверждение, что юность — «самая мучительная пора жизни человека». Подобно своему любимому Марселю Прусту, Нагибин занят поиском утраченного времени, несбывшихся любовей, несложившихся отношений, бесследно сгинувших друзей.В книгу вошли циклы рассказов «Чистые пруды» и «Чужое сердце».
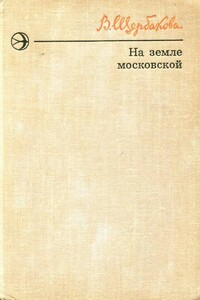
Роман московской писательницы Веры Щербаковой состоит из двух частей. Первая его половина посвящена суровому военному времени. В центре повествования — трудная повседневная жизнь советских людей в тылу, все отдавших для фронта, терпевших нужду и лишения, но с необыкновенной ясностью веривших в Победу. Прослеживая судьбы своих героев, рабочих одного из крупных заводов столицы, автор пытается ответить на вопрос, что позволило им стать такими несгибаемыми в годы суровых испытаний. Во второй части романа герои его предстают перед нами интеллектуально выросшими, отчетливо понимающими, как надо беречь мир, завоеванный в годы войны.

В сборник известного советского прозаика и очеркиста лауреата Ленинской и Государственной РСФСР имени М. Горького премий входят повесть «Депутатский запрос» и повествование в очерках «Только и всего (О времени и о себе)». Оба произведения посвящены актуальным проблемам развития российского Нечерноземья и охватывают широкий круг насущных вопросов труда, быта и досуга тружеников села.

В сборник вошли созданные в разное время публицистические эссе и очерки о людях, которых автор хорошо знал, о событиях, свидетелем и участником которых был на протяжении многих десятилетий. Изображая тружеников войны и мира, известных писателей, художников и артистов, Савва Голованивский осмысливает социальный и нравственный характер их действий и поступков.
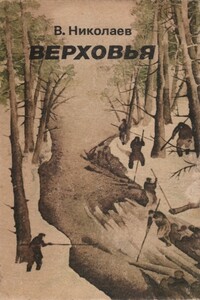
В новую книгу горьковского писателя вошли повести «Шумит Шилекша» и «Закон навигации». Произведения объединяют раздумья писателя о месте человека в жизни, о его предназначении, неразрывной связи с родиной, своим народом.
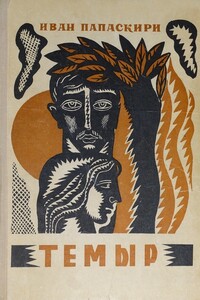
Роман «Темыр» выдающегося абхазского прозаика И.Г.Папаскири создан по горячим следам 30-х годов, отличается глубоким психологизмом. Сюжетную основу «Темыра» составляет история трогательной любви двух молодых людей - Темыра и Зины, осложненная различными обстоятельствами: отец Зины оказался убийцей родного брата Темыра. Изживший себя вековой обычай постоянно напоминает молодому горцу о долге кровной мести... Пройдя большой и сложный процесс внутренней самопеределки, Темыр становится строителем новой Абхазской деревни.

Источник: Сборник повестей и рассказов “Какая ты, Армения?”. Москва, "Известия", 1989. Перевод АЛЛЫ ТЕР-АКОПЯН.