Любка - [23]
Утром, как всегда, разом мигнув, вспыхнули все лампы в бараке. Люди закашляли, зазевали. Слышался хруст затекших суставов. Кто-то смачно сплевывал в угол мокроту. Любка быстро скатился с нар. Голова была ясной и легкой. У дверей барака на крыльце сидел в кругу зэков Рахим. Что-то очень веселый и болтливый. Любка обошел барак с тылу, вытащил запрятянную под бревна шайку. Она была тяжеленной из-за замерзшей за ночь воды Любка тихо, стараясь не привлекать внимания, подошел к Рахимовой компании, держа шайку за спиной.
— И чего ты, Лубка, не веселый такой? — ухмыльнулось навстречу ему ненавистное узкоглазое лицо. И Любка со всей силы обрушил на эту улыбку, на эту бритую голову тяжесть шайки со льдом. Будто орех, треснув, раскололся череп Рахима. Что-то склизко-розовое потекло оттуда; из носа и рта хлынула кровь.
— Веди его, веди его, пидора, на вахту: повязочника эта сука убила!
На Любку навалились менты и помогавшие им два-три зэка из «примерных», исправившихся. Любку повели на вахту мимо запретки, мимо слепых окон амбулатории по мокрому, начавшему таять снегу. Опер подошел вплотную к Любке и, дыша винным свонявшим ртом, сказал:
— Ну, Любка, пидор недоебанный, пришел твой конец! Я из тебя, суки, собственным ремнем душу выбью!
Любка молчал и только чувствовал странный холод внизу живота. Двое ментов втолкнули Любку в одну из вахтенных камер с зарешеченными окнами. Внезапно где-то в проходной задребезжал телефон. Опер выскочил из комнаты, а вслед за ним почему-то и менты. В углу камеры у большой печки копался на корточках дежурный зэк. «Старик-Егорыч», — подумал про себя Любка. Егорыч сочувственно поглядел на Любку:
— Ну натворил ты, парень, делов! Ты, как они тебя молотить начнут, не противься, а ори как можно страшнее… В крике-то боль легче выходит, да и бьют они послабже: все же как-никак человеки — жалость имеют.
Любка подошел к ярко пылавшей печке, погрел о ее черную крашеную боковину руки. Краем глаза он вдруг заметил прислоненный к печке топор.
— Острый топор-то? — спросил он медленным шепотом.
— А как же, острый, конечно, вчерась сам начальник домой брал — точить, а то измучился я с дровами.
В коридоре послушался топот многих сапог. Любка напружинился, и отвернувшийся к двери Егорыч не видел, как топор оказался спрятанным у Любки в руках за спиной. Опер меж тем входил в дверь, вытаскивая ремень из брюк и плотоядно усмехаясь:
— Мы сейчас, Любка, твою жопу на крепость проверим и не хуем, а железной пряжкой!
Рука с топором вылетела у Любки из-за спины и нависла над застывшим в улыбке молодым опером. Краска медленно слетела с его гладко выбритых щек, и он попятился к окну:
— Ты это брось, ты чего, я же в шутку, — начал он, но не договорил.
Топор обрушился на его голову и, скользнув, оросил брызнувшей кровью стену. Отчаянно завизжав, опер полез в зарешеченное окно, цепляясь за надежно сваренные прутья решетки, а Любка как автомат молотил и молотил лезвием топора по спине и шее опера. Оторопевшие менты попытались было отбить начальника, но Любка пошел с топором и на них. Одного он успел зацепить, но только легко — руку задел, а второй и ждать не стал, выскочил зайцем в коридор и захлопнул за собой дверь. Любка не помнил, сколько времени прошло, — он все рубил и рубил в остервенении топором, разваливая стол и табуретки, кромсая кучу окровавленного тряпья — то, что осталось от молодого опера. В комнате было жарко и тихо. Опомнившись и оглянувшись, Любка, прислушался и уловил какое-то дыхание за печкой. Он заглянул туда — в простенке скрючился и жалобно смотрел на него смертельно испуганный Егорыч.
— Не бойся, тебя не трону, — пробормотал Любка. — Катись отсюда, да скажи им, — Любка кивнул на дверь — живым не дамся, всю сволочь советскую крошить буду…
Егорыч зашуршал по щепкам и кровавому тряпью к дверям. Снова наступила тишина. Так прошло полчаса, может час, Любка услышал осторожные крадущиеся шаги. Приготовившись, он стал у двери. Она медленно отворилась, и в щель влезла рука с револьвером. Изловчившись, Любка рубанул по этой руке — топор и вправду был острым — послышался вопль, и отрубленная кисть грохнулась у ног Любки вместе с револьвером. Его Любка поднимать не стал, побоялся, не знал, как управляться с ним. В коридоре теперь слышались разговоры, шаги, суета многих людей. Из-за двери послышался чей-то голос:
— Заключенный Н…, а заключенный Н…
— Чего, начальник, пиздишь, а в дверь не входишь? Дрейфишь, сука большевистская, рабовладелец проклятый!
— Ты того, Петя, — послышался другой более вкрадчивый голос, — бросил бы топор, а то тебе же хуже, приговор утяжеляешь.
— А мне, начальник, на твой приговор насрать! Я сам себе приговор определил: жить не хочу после того, как Мишку убили…
— Ты, Петя…
— Я тебе, сучья рожа, не Петя, а Любка, Любовь Петровна, понял!!
— Ну, Любка, хватит тебе восстание поднимать, пошумел и будет. Бросай топор и сдавайся по-хорошему!
Любка ничего не ответил, только улыбнулся жестоко. Дверь внезапно широко отворилась, и на пороге с винтовками на перевес встали двое с выставленными вперед оголенными штыками. Любка, прижавшись к окну, ждал выстрела, но его не последовало. Раздвинув ментов, в комнату осторожно вошел какой-то чин в зеленой гимнастерке с туго перепоясанной талией:

Даже в аду ГУЛАГа можно выжить. И даже оттуда можно бежать. Но никто не спасёт, если ад внутри тебя. Опубликовано: журнал «Полдень, XXI век», октябрь 2008.

…я счел своим долгом рассказать, каково в действительности положение «спеца», каковы те камни преткновения, кои делают плодотворную работу «спеца» при «советских условиях» фактически невозможною, кои убивают энергию и порыв к работе даже у самых лояльных специалистов, готовых служить России во что бы то ни стало, готовых искренно примириться с существующим строем, готовых закрывать глаза на ту атмосферу невежества и тупоумия, угроз и издевательства, подозрительности и слежки, самодурства и халатности, которая их окружает и с которою им приходится ежедневно и безнадежно бороться.Живой отклик, который моя книга нашла в германской, английской и в зарубежной русской прессе, побуждает меня издать эту книгу и на русском языке, хотя для русского читателя, вероятно, многое в ней и окажется известным.Я в этой книге не намерен ни преподносить научного труда, ни делать какие-либо разоблачения или сообщать сенсационные сведения.

Рассказы Виктора Робсмана — выполнение миссии, ответственной и суровой: не рассказывать, а показать всю жестокость, бездушность и бесчеловечность советской жизни. Пишет он не для развлечения читателя. Он выполняет высокий завет — передать, что глаза видели, а видели они много.
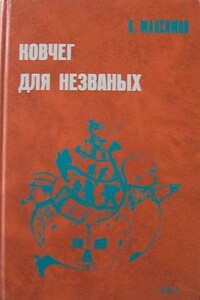
«Ковчег для незваных» (1976), это роман повествующий об освоении Советами Курильских островов после Второй мировой войны, роман, написанный автором уже за границей и показывающий, что эмиграция не нарушила его творческих импульсов. Образ Сталина в этом романе — один из интереснейших в современной русской литературе. Обложка работы художника М. Шемякина. Максимов, Владимир Емельянович (наст. фамилия, имя и отчество Самсонов, Лев Алексеевич) (1930–1995), русский писатель, публицист. Основатель и главный редактор журнала «Континент».
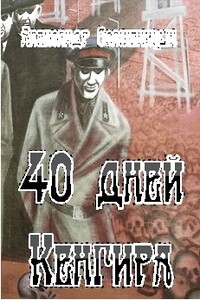
Кенгирское восстание — восстание заключенных Степного лагеря (Степлага) в лагпункте Кенгир под Джезказганом (Казахстан) 16 мая — 26 июня 1954 г. Через год после норильского восстания, весной 1954 года, в 3-м лаготделении Степлага (пос.Джезказган Карагандинской обл.) на 40 дней более 5 тысяч политических заключенных взяли власть в лагере в свои руки. На 40-й день восстание было подавлено применением военной силы, включая танки, при этом, по свидетельствам участников событий, погибли сотни человек.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.