Луковица памяти - [66]
Достоверно лишь то, что весной сестра Филиппа, которой я, видно, поднадоел, устроила меня работать к одному нижнерейнскому крест ьянину, имевшему хозяйство в округе Бергхаймс-Эрфт.
Да, дело было весной. Вижу, как я, наскоро обученный, плетусь за плугом или тяну лошадь за поводья, а крестьянин прокладывает борозду за бороздой. Пашем с утра до ночи. Еды хватает. Остается только другой голод, который не утоляется ни кашей, ни фруктовым муссом; наоборот, они только разжигают аппетит, а он растет и становится все непристойнее.
Спал я в небольшой каморке с придурковатым батраком. На подворье работала дояркой девушка из Восточной Пруссии; ее направили сюда по принудительному подселению вместе с престарелым отцом, годным только на то, чтобы ходить за свиньями; крестьянин держал помимо свиней еще двенадцать коров и четырех лошадей. Он уже завладел девушкой, хотя был ревностным католиком и каждое воскресенье ходил с женой в церковь.
И вот в моем вертепчике, где постоянно меняются декорации и персонажи, появляется Эльзабе, так звали эту девушку; крупная, широкая в кости, она стоит возле забора, в тени у ворот или на солнышке меж подойников. Встанет ли она, пройдется или нагнется — загляденье да и только. Тянуло меня к ней так сильно, что я, повинуясь этой тяге, наверняка написал с дюжину стихов — наспех зарифмованные вирши, сочиненные и записанные между прореживанием свеклы и колкой дров.
Тамошняя местность не слишком располагала клирике: то высвеченные солнцем размежеванные наделы, то расплывающаяся под дождем округа, где кроме деревенской церковной башни нет и намека на какую-нибудь возвышенность.
Ночью храпел батрак, днем над четырехугольным подворьем гремел зычный голос крестьянина, к нему присоединялось мычанье дюжины коров, которых вручную доила богиня с белесыми ресницами. Это было невыносимо. Поэтому я отправился в путь, изголодавшийся, хотя на крестьянском подворье меня неплохо откормили; мой неутоленный голод — о чем свидетельствуют узкие строчки луковичного пергамента — был совсем иного свойства.
Я добрался до Саара: там у меня был адресок сотоварища, которого также освободили из Мунстерлагера и который пообещал мне приют в мансарде домика, где он жил с матерью, принявшей меня словно второго сына.
Это обещало домашний уют, если б в Сааре не голодали куда сильнее, чем в иных местах. Похоже, французские оккупационные власти хотели наказать задним числом всех здешних жителей, а не только тех, кто в тридцать пятом году проголосовал за лозунг: «На родину, в Рейх!» Домик рядовой застройки находился недалеко от Мерцига.
С моим приятелем, настоящее имя которого я, пожалуй, никогда и не слыхал — все звали его Конго, так как он собирался вступить во французский Иностранный легион и уже видел себя сражающимся под небом пустыни против берберских повстанцев, — я ездил в переполненных поездах в сельскую местность, до самого Хунсрюка, казавшегося нам краем света, столь тоскливо холмистыми были тамошние окрестности.
Такие поездки были делом обыденным, их называли мешочничеством. На остатки моего английского чая и бритвенных лезвий, а также на пользующиеся повсюду большим спросом кремни для зажигалок, доставшиеся мне от спекулятивных операций на кёльнском черном рынке, мы выменивали картошку и белокочанную капусту. Мы прочесывали двор за двором, иногда уходили с пустыми руками. Но кроме менового товара, поддающегося взвешиванию или счету, я мог предложить и кое-что другое.
Когда, проявив сообразительность, я погадал по руке заметно беременной хозяйке подворья, которая счастливо делила стол и ложе с оставшимся у нее французом, некогда пригнанным на работу, мне в качестве гонорара дали кроме изрядного куска овечьего сыра еще и шмат копченого сала, настолько довольна была сидевшая за столом хозяйка тем, что в линиях ее ладони я прочитал пусть не многолетнее, но довольно продолжительное отсутствие хозяина дома. С сорок третьего года он считался пропавшим без вести на Восточном фронте, однако присутствовал с нами в виде фотографии на стоячей рамке.
Где же научился я сомнительному искусству хиромантии? Может, подсмотрел у цыган, которые приходили из Польши через границу Вольного города и бродили по улицам Лангфура, предлагая свои услуги в качестве точильщиков ножей и ножниц или лудильщиков кастрюль?
Кажется, в Верхнем Пфальце, где в большом лагере для военнопленных я, коротая время и борясь с реальным голодом, записался на абстрактные кулинарные курсы, мне довелось посещать и другой кружок, куда меня привлекло искусство хиромантии.
Был ли то природный дар, подсмотрел ли я приемы гадания или обучился им, так или иначе без особого зазрения совести мне удалось в хунсрюкской глубинке вполне профессионально предсказать счастливое будущее: сколь красноречиво свидетельствовали линии на ладони в пользу хозяйки подворья и ее скромно держащегося в тени сожителя, столь же прибыльной и питательной оказалась для меня хиромантия.
И все же не копченое сало стало главной добычей нашего мешочнического выезда в Хунсрюк. На подворье нашла работу и приют золовка хозяйки, из-за бомбежки лишившаяся своего жилья в Руре; она-то и одарила меня тем, что не бросишь на весы и не отсчитаешь штуками.

Роман «Собачьи годы» – одно из центральных произведений в творчестве крупнейшего немецкого писателя нашего времени, лауреата Нобелевской премии 1999 года Гюнтера Грасса (р.1927).В романе история пса Принца тесно переплетается с судьбой германского народа в годы фашизма. Пес «творит историю»: от имени «немецкого населения немецкого города Данцига» его дарят Гитлеру.«Собачий» мотив звучит в сопровождении трагически гротескных аккордов бессмысленной гибели немцев в последние дни войны. Выясняется, что фюрер завещал своим верноподданным собаку.
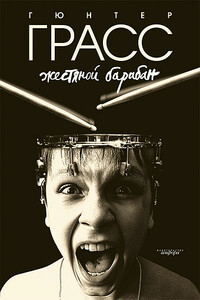
«Жестяной барабан» — первый роман знаменитого немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии (1999) Гюнтера Грасса. Именно это произведение, в гротесковом виде отразившее историю Германии XX века, принесло своему автору мировую известность.

Гюнтер Грасс — известный западногерманский писатель, романист, драматург и поэт, автор гротескно-сатирических и антифашистских романов. В сборник вошли роман «Под местным наркозом», являющийся своеобразной реакцией на «фанатический максимализм» молодежного движения 60-х годов, повесть «Кошки-мышки», в которой рассказывается история покалеченной фашизмом человеческой жизни, и повесть «Встреча в Тельгте», повествующая о воображаемой встрече немецких писателей XVII века.
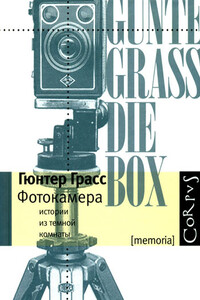
«Фотокамера» продолжает автобиографический цикл Гюнтера Грасса, начатый книгой «Луковица памяти». Однако на этот раз о себе и своей семье писатель предпочитает рассказывать не от собственного имени — это право он делегирует своим детям. Грасс представляет, будто по его просьбе они готовят ему подарок к восьмидесятилетию, для чего на протяжении нескольких месяцев поочередно собираются то у одного, то у другого, записывая на магнитофон свои воспоминания. Ключевую роль в этих историях играет незаурядный фотограф Мария Рама, до самой смерти остававшаяся близким другом Грасса и его семьи.

В 2009 году Германия празднует юбилей объединения. Двадцать лет назад произошло невероятное для многих людей событие: пала Берлинская стена, вещественная граница между Западным и Восточным миром. Событие, которое изменило миллионы судеб и предопределило историю развития не только Германии, но и всей, объединившейся впоследствии Европы.В юбилейной антологии представлены произведения двадцати трех писателей, у каждого из которых свой взгляд на ставший общенациональным праздник объединения и на проблему объединения, ощутимую до сих пор.

В четвертый том Собрания сочинений Г. Грасса вошли повести «Встреча в Тельгте» и «Крик жерлянки», эссе «Головорожденные», рассказы, стихотворения, а также «Речь об утратах (Об упадке политической культуры в объединенной Германии)».

Карой Пап (1897–1945?), единственный венгерский писателей еврейского происхождения, который приобрел известность между двумя мировыми войнами, посвятил основную часть своего творчества проблемам еврейства. Роман «Азарел», самая большая удача писателя, — это трагическая история еврейского ребенка, рассказанная от его имени. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он затем возвращается во внешне благополучную семью отца, местного раввина, где терзается недостатком любви, внимания, нежности и оказывается на грани тяжелого душевного заболевания…

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.