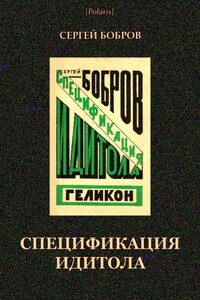— Очень жаль, — сказала она, отводя глаза от меня, — но всякий живет как умеет в конце концов…
— Вот поэтому-то и не надо на меня сердиться за то, что я так не умею.
— Никто не сердится — спокойно осадила она мою попытку свести дело на «сродство душ», — а если уж вам так неможется — вот мужнин велосипед, катите на станцию, там сдайте сторожу, к почтовому еще поспеете.
— Благодарю вас, — ответил я от всего сердца, — простите еще раз и будьте счастливы.
Мы вышли вместе из сада. Я вел за ней велосипед и, хотя чувствовал, что разговаривать больше нечего, ежась сказал:
— Не могу, честное слово… убивали каких-то железных зверей, паровозы там что ли… Ну — Бог знает что такое.
Она глянула на меня несколько расстроенно, потом, несколько отвернувшись куда-то вдаль, увела глаза и сказала довольно тихо:
— Это наше счастье… Мое — женское счастье…
Меня бросило в холод от этих слов и я, путаясь и почти дрожа, полез, не отвечая, на велосипед. Но надо же было тут же, около нее, чуть не свалиться, ткнувшись в колею, и выслушать еще одну фразу:
— Да разве около вас никогда не было женщины, хорошей женщины, которая бы…
— Простите, — перебил я оправляясь, — не могу я этого слушать: и как вы не понимаете — да про нас ли эти небеса писаны.
Покраснев, вскочил я снова на машину и через минуту ровный шип шин по песку и убегающий лес привели меня в более спокойные чувства.
А ты, Эстрюго, — мрачная личность.
(Кроммелинк)
В городе занялся размышлениями: вспомнил Данта, «Орелию» Жерара де Нерваль,[15] Стриндберга[16] и все прочее… однако выводы мои были не утешительны. Ко мне неотступно лезла в голову мысль о жестокой обиде, которую я кому-то нанес, — а кому, я даже и выяснить не могу.
Пошел к доктору.
— Так и так, — говорю, — жить не могу. Кошмары — снится анафемская небывальщина…
— Переутомились, — сказал он, попахивая йодоформом, — в деревеньку бы вам надо.
— Благодарю вас, — только что оттуда еле ноги унес.
— К простым людям…
— Вот именно; от простых-то я и полез на стенку.
— Ну, хотите, брому пропишу, — сказал он, явно насмехаясь.
Но от него я все же ушел успокоенный.
Николай Иванычу я позвонил, — сказал, что нам пока лучше не видеться некоторое время. Он — опасный человек, я это всегда чувствовал.