Литературный архипелаг - [111]
«Ради бога, не отвлекайтесь в сторону! Когда такой человек, как мой брат, располагавший в то время большими средствами, отказал в материальной помощи страшно нуждавшемуся Ремизову (вы можете себе представить, как нелегко было Алексею Михайловичу и Серафиме Павловне просить деньги у брата!)[751], то тут уж нечего раздумывать — это злокачественный нарост на психике! Его вечная неудовлетворенность собственной работой и острое желание снискать одобрение людей, которых сам Лев не очень-то признавал, — что это? Если бы он мог, он поставил бы вопрос о собственном значении на всенародное голосование. Поэтому-то он и соперничает постоянно с каждым, кто уже сдал экзамен на признание. По существу же, конечно, Лев человек необыкновенный, и я надеюсь, что он добьется своего и выйдет на предназначенную ему дорогу». «Ну, слава богу, наконец-то договорились! — подумал я. — Но неужели Фаня Исааковна, в свою очередь, соперничает со Львом Исааковичем? Семейка, нечего сказать! Прямо в роман просится». Минуту спустя, уже в гораздо более спокойном тоне, не слишком сдержанная сестра «великого человека» продолжала:
«Вы можете подумать, что я в каком-то смысле соперничаю с братом и потому так подчеркиваю значение научного подхода к нему, в данном случае психоаналитического метода, т. е. того, что Льву совершенно чуждо и непонятно. На самом же деле верно как раз обратное. Я жду не дождусь, когда наконец „Лев Шестов“ постигнет, что он не ученый, не литератор и не философ в современном академическом значении этого слова, а что он представляет собою нечто гораздо более значительное… Откровенно признаюсь, что я, в сущности, не знаю, что такое религия, но и наша мать тоже не знает, хотя вся ее жизненная сила в религии. То же с братом. Ему пора разоблачить самого себя, а он все прячется. Потому-то я и злюсь», — она рассмеялась и, приподняв худощавые плечи, наклонилась ко мне, ну точь-в-точь как ее брат, когда он насильственно преодолевал уныние.
«Просто смешно! Я, как Лева, все говорю вокруг да около, а то, что я хочу сказать, вовсе не так сложно, только надо иметь смелость это высказать».
Она опять с минуту помолчала, а затем с очень серьезным лицом, впиваясь в меня взглядом, сказала: «Мой брат мог бы воскресить в наш век истинную веру, а он… а он…» Голос оборвался, она быстро поднесла к глазам кружевной платочек.
По дороге к себе и еще очень долго у себя дома я перебирал в уме то, чего я наслушался у сестры Шестова. Конечно, ее суждения о брате были предвзятыми. Очевидно, это общая черта всей семьи. Однако же в одном надо было согласиться с Фаней Исааковной, а это была, по всей вероятности, настоящая подоплека несуразной пляски ее чувств: если Лев Шестов — загадка, если увидеть его в полусвете современных сумерек, то соизмерим он лишь с загадками мировыми. Я перебирал и сравнивал отзывы, доходившие до меня в неожиданном виде от людей, хорошо знавших Шестова, начиная с Григория Ительсона и кончая Ивановым-Разумником, Бердяевым, Ремизовым и Ольгой Форш. Ольга Дмитриевна обрушилась однажды с полувосточной страстностью своей на мелочность Льва Исааковича: «Подумать только, и это называется великий мыслитель, великий печальник рода человеческого!» Она не могла простить ему бессердечности, якобы проявленной Шестовым к ее сыну Диме. «В киевские годы мы таких называли „рыцарями Денежки“, а теперь, в эмиграции, он превратился в истинно русского „сантимника“». Я не сомневался, что тогда, в 1922 году, Ольга Форш искренно была разочарована в Шестове и что именно поэтому она, может быть, так страстно была придирчива. Возможно, что и обида родной сестры Шестова, сводившей счеты с братом, основана на той же почве и отождествляется с обидой четы Ремизовых? Не кроется ли во всем этом нечто антимужское? «Ага! — продолжал я рассуждать с самим собой. — Провел вечер в кулуарах Фрейда и сразу заразился фрейдианством!» Но тут меня осенило… Я нашел ключ, который впоследствии всегда оставался у меня под рукой.
Я думал, что не случайно две женщины так глубоко задеты действительными или воображаемыми слабостями Льва Шестова. И подкладка тут, пожалуй, женская. Конечно, это только подтверждает особое чутье, особую женскую восприимчивость по отношению к целостности человеческой личности. Совершенство для женщин не только идеал, но и реальное восприятие того, что могло бы осуществиться. Они, женщины, больше в потенции, чем в действии и действительности. Вот почему им так трудно примириться с проявлением неопределенного несовершенства. Для Разумника Васильевича Шестов — законный владелец почетного места в книжном шкафу, интересный экспонат на всемирной выставке русской литературы, а в каком переплете, в каком сплетении человеческих черт он подан потомству, — вопрос неинтересный и почти неуместный. Так же точно и для Бердяева все «человеческое, слишком человеческое»[752] остается в «русском Ницше» за изгородью кладбища идей; на нем, на кладбище этом, останется надгробный камень с им, Бердяевым, сочиненной эпитафией. Чего же больше? Иное дело родная сестра; иное дело Ольга Форш, которая, чувствуя тягу к кому-либо в особенности, не задумывалась признаться вслух в своей «братской любви». Шестова Ольга Форш когда-то, как-то по-своему очень любила. И его неприятие на скошенных полях разочарования, естественно, торчит острым укором: сколько было раньше теплоты и восторженного признания, столько градусов жгучего колючего мороза осталось после разочарования в отвергнутом идеале. Из всего этого как будто следует, что, по существу, на Шестова невозможно было не возлагать какие-то необыкновенные надежды, что в сути его было нечто сродни, ну скажем, к примеру, — Блоку, который кончил, и так рано кончил, отчаянием и разочарованием в самом себе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
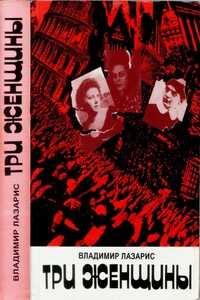
Эту книгу можно назвать книгой века и в прямом смысле слова: она охватывает почти весь двадцатый век. Эта книга, написанная на документальной основе, впервые открывает для русскоязычных читателей неизвестные им страницы ушедшего двадцатого столетия, развенчивает мифы и легенды, казавшиеся незыблемыми и неоспоримыми еще со школьной скамьи. Эта книга свела под одной обложкой Запад и Восток, евреев и антисемитов, палачей и жертв, идеалистов, провокаторов и авантюристов. Эту книгу не читаешь, а проглатываешь, не замечая времени и все глубже погружаясь в невероятную жизнь ее героев. И наконец, эта книга показывает, насколько справедлив афоризм «Ищите женщину!».

Записки рыбинского доктора К. А. Ливанова, в чем-то напоминающие по стилю и содержанию «Окаянные дни» Бунина и «Несвоевременные мысли» Горького, являются уникальным документом эпохи – точным и нелицеприятным описанием течения повседневной жизни провинциального города в центре России в послереволюционные годы. Книга, выходящая в год столетия потрясений 1917 года, звучит как своеобразное предостережение: претворение в жизнь революционных лозунгов оборачивается катастрофическим разрушением судеб огромного количества людей, стремительной деградацией культурных, социальных и семейных ценностей, вырождением традиционных форм жизни, тотальным насилием и всеобщей разрухой.

Оценки личности и деятельности Феликса Дзержинского до сих пор вызывают много споров: от «рыцаря революции», «солдата великих боёв», «борца за народное дело» до «апостола террора», «кровожадного льва революции», «палача и душителя свободы». Он был одним из ярких представителей плеяды пламенных революционеров, «ленинской гвардии» — жесткий, принципиальный, бес— компромиссный и беспощадный к врагам социалистической революции. Как случилось, что Дзержинский, занимавший ключевые посты в правительстве Советской России, не имел даже аттестата об образовании? Как относился Железный Феликс к женщинам? Почему ревнитель революционной законности в дни «красного террора» единолично решал судьбы многих людей без суда и следствия, не испытывая при этом ни жалости, ни снисхождения к политическим противникам? Какова истинная причина скоропостижной кончины Феликса Дзержинского? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге.

Автор книги «Последний Петербург. Воспоминания камергера» в предреволюционные годы принял непосредственное участие в проведении реформаторской политики С. Ю. Витте, а затем П. А. Столыпина. Иван Тхоржевский сопровождал Столыпина в его поездке по Сибири. После революции вынужден был эмигрировать. Многие годы печатался в русских газетах Парижа как публицист и как поэт-переводчик. Воспоминания Ивана Тхоржевского остались незавершенными. Они впервые собраны в отдельную книгу. В них чувствуется жгучий интерес к разрешению самых насущных российских проблем. В приложении даются, в частности, избранные переводы четверостиший Омара Хайяма, впервые с исправлениями, внесенными Иваном Тхоржевский в печатный текст парижского издания книги четверостиший. Для самого широкого круга читателей.

Долгая и интересная жизнь Веры Александровны Флоренской (1900–1996), внучки священника, по времени совпала со всем ХХ столетием. В ее воспоминаниях отражены главные драматические события века в нашей стране: революция, Первая мировая война, довоенные годы, аресты, лагерь и ссылка, Вторая мировая, реабилитация, годы «застоя». Автор рассказывает о своих детских и юношеских годах, об учебе, о браке с Леонидом Яковлевичем Гинцбургом, впоследствии известном правоведе, об аресте Гинцбурга и его скитаниях по лагерям и о пребывании самой Флоренской в ссылке.

Внук известного историка С. М. Соловьева, племянник не менее известного философа Вл. С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока, Сергей Михайлович Соловьев (1885— 1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем. Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».
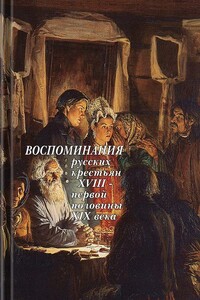
Сборник содержит воспоминания крестьян-мемуаристов конца XVIII — первой половины XIX века, позволяющие увидеть русскую жизнь того времени под необычным углом зрения и понять, о чем думали и к чему стремились представители наиболее многочисленного и наименее известного сословия русского общества. Это первая попытка собрать под одной обложкой воспоминания крестьян, причем часть мемуаров вообще печатается впервые, а остальные (за исключением двух) никогда не переиздавались.

Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) – создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник – явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д.), так и по остроте критического отношения к советской власти.