Литературный архипелаг - [107]
Как бы для того, чтобы закруглить свою статью-экспромт, Иванов-Разумник закончил ее анекдотом: «Я отлично знаю, что Лев Исаакович еще и теперь не любит, когда ему напоминают о еврейской Библии, но я свое отношение никогда не держал от него в секрете. Когда я был в Киеве у них дома, я познакомился с шурином Льва Исааковича, мужем его сестры, композитором Германом Леопольдовичем Ловцким. Вспомнили, между прочим, Ремизова, Алексея Михайловича, которого все знали. И вдруг шурин Шестова сообщает, что он написал музыку на „Красочки“ Ремизова[737]. Я оторопел. На „Красочки“ Ремизова?! Да чтобы их правильно воспринять и почувствовать, сколько надо иметь за спиной поколений из Замоскворечья, сколько пудов кислой капусты надо съесть?! Бог знает что надо! А тут… Ну, ясное дело, музыка оказалась „курам на смех“. Лев Исаакович заметил мое впечатление и затем, наедине, коснулся неприятной темы:
— Горячий он, знаете, родственник!
— Ну скажите, почему ваш шурин не ищет вдохновения для своих композиций в чем-либо, что ему ближе по духу?
И представьте себе, Лев Исаакович едва не рассердился.
— Ближе по духу, ближе по духу! Разве дух не дышит, где хочет? Помилуйте, Разумник Васильевич! Вы как бы во сне или со сна говорите!
Вот тогда-то и выскочила у меня антитеза — спящие и бодрствующие, Лев Исаакович открыл мне глаза. Подождите, подождите, он еще сядет на землю, посыплет голову пеплом и такими иеремиадами изойдет, что весь мир огласится…»
В конце того же 1920 года мне пришлось продолжить подобный разговор о Шестове с Николаем Александровичем Бердяевым в Москве. Рассказывая поздно вечером в его слабо освещенном и слабо протопленном кабинете в одном из переулков, отходивших, насколько помнится, от Поварской, о наших общих знакомых, я не мог не сравнить скромные остатки уютного барски-интеллигентского быта в Москве с мерзлой гарью, в которой мы жили в питерском царстве жестяных печурок-«буржуек» и щербатых лампад-«коптилок». «Недаром, — заметил я, — Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна Мережковские уже до войны воскресили пророчество, что Петербургу быть пусту!» — «Это, — отозвался Бердяев, схватывая правой рукой взлетевшую непроизвольно вверх левую руку, — это у них от него…» И разговор сразу перешел на Шестова.
Я уже упоминал, что для Бердяева весь Шестов был укоренен в «дохристианском иудаизме». В этот вечер я мог убедиться, до какой степени Николай Александрович был непоколебим в своей оценке духовной сущности старого своего университетского товарища и до каких мелочей взгляд его совпадал странным образом с оценкой Шестова Ивановым-Разумником. Ведь Николай Бердяев и Иванов-Разумник были антиподы. Выходило, что на расстоянии, с какой бы стороны ни смотреть, Лев Исаакович оказывался «еврейским пророком».
Я не мог соглашаться, я возражал и спорил. Но в 1920 году я не знал, что уже со времени киевского процесса Бейлиса в сознании Льва Исааковича что-то произошло, что заставило его по-новому оглянуться на собственные свои «Начала и концы» и увидеть самого себя продолжателем иерусалимской духовной генеалогии. Тогда-то именно и зародилась, очевидно, его антитеза «Афины и Иерусалим», бессознательно перенятая им из еврейской философии истории предшествующих веков[738]. Однако один из мотивов, побудивший его еще так недавно решительно отнекиваться от своего естественного наследия, оставшийся не замеченным и Разумником Васильевичем, выступил с неожиданной отчетливостью в отрывистых воспоминаниях Николая Александровича.
Оба они, Шестов и Бердяев, были еще очень молоды, рассказывал Николай Александрович, когда трагическое ощущение жизни стало ввергать Шестова в безвыходный нигилизм. И хотя сам Бердяев был тогда все еще весьма близок к марксистскому материализму, шестовское неверие, сомнение и отрицание заходили так далеко, что не оставалось места не только для духа, но даже для самой легковесной материи. «Его нигилизм, — продолжал вспоминать Николай Александрович, — отрывал Шестова от всего кругом, от всех окружающих. Вид его был унылым, просто жалким.
— Это в тебе говорит мировая скорбь иудеев.
— Почему иудеев? При чем тут множественное число? Если я когда-нибудь выражу свое понимание литературы, это будет моя личная ответственность. Не хочу, чтобы другие отвечали за меня… За твоего Маркса тоже отвечают „иудеи“? И спроси Луначарского, кто отвечает за его Спинозу? Что бы ни случилось, ты будешь отвечать за себя, а я, и только я, за себя.
Мы теперь далеко разошлись, но мне ясно, что прав был я, а не Шестов. А что еще дальше будет?»
Совсем как Иванов-Разумник, Бердяев не сомневался в том, что, где бы Шестов ни был, он «бодрствует» и, несмотря на свои пятьдесят лет, еще может удивить современников резким поворотом, если не скачком, в своем развитии. И так же, как Иванов-Разумник готов был ожидать «возвращения» Шестова в лоно «скифства», так и Бердяев не исключал возможности обращения Льва Исааковича в христианство. Ни того, ни другого не произошло, но после еще двух почти десятилетий странствий по извилистым путям Лев Исаакович «вернулся» к себе и «обратился» в веру праотцев, как он ее толковал. «Видите! Что я вам говорила!» — воскликнула по этому поводу старая киевлянка Ольга Дмитриевна Форш, очутившись в конце 20-х годов на короткое время за границей. Однако среди старых друзей Шестова она занимала особое положение. Она всегда и упорно не верила в его неверие.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Мария Михайловна Левис (1890–1991), родившаяся в интеллигентной еврейской семье в Петербурге, получившая историческое образование на Бестужевских курсах, — свидетельница и участница многих потрясений и событий XX века: от Первой русской революции 1905 года до репрессий 1930-х годов и блокады Ленинграда. Однако «необычайная эпоха», как назвала ее сама Мария Михайловна, — не только войны и, пожалуй, не столько они, сколько мир, а с ним путешествия, дружбы, встречи с теми, чьи имена сегодня хорошо известны (Г.

Один из величайших ученых XX века Николай Вавилов мечтал покончить с голодом в мире, но в 1943 г. сам умер от голода в саратовской тюрьме. Пионер отечественной генетики, неутомимый и неунывающий охотник за растениями, стал жертвой идеологизации сталинской науки. Не пасовавший ни перед научными трудностями, ни перед сложнейшими экспедициями в самые дикие уголки Земли, Николай Вавилов не смог ничего противопоставить напору циничного демагога- конъюнктурщика Трофима Лысенко. Чистка генетиков отбросила отечественную науку на целое поколение назад и нанесла стране огромный вред. Воссоздавая историю того, как величайшая гуманитарная миссия привела Николая Вавилова к голодной смерти, Питер Прингл опирался на недавно открытые архивные документы, личную и официальную переписку, яркие отчеты об экспедициях, ранее не публиковавшиеся семейные письма и дневники, а также воспоминания очевидцев.

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.

Долгая и интересная жизнь Веры Александровны Флоренской (1900–1996), внучки священника, по времени совпала со всем ХХ столетием. В ее воспоминаниях отражены главные драматические события века в нашей стране: революция, Первая мировая война, довоенные годы, аресты, лагерь и ссылка, Вторая мировая, реабилитация, годы «застоя». Автор рассказывает о своих детских и юношеских годах, об учебе, о браке с Леонидом Яковлевичем Гинцбургом, впоследствии известном правоведе, об аресте Гинцбурга и его скитаниях по лагерям и о пребывании самой Флоренской в ссылке.

Внук известного историка С. М. Соловьева, племянник не менее известного философа Вл. С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока, Сергей Михайлович Соловьев (1885— 1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем. Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».
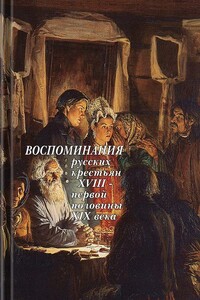
Сборник содержит воспоминания крестьян-мемуаристов конца XVIII — первой половины XIX века, позволяющие увидеть русскую жизнь того времени под необычным углом зрения и понять, о чем думали и к чему стремились представители наиболее многочисленного и наименее известного сословия русского общества. Это первая попытка собрать под одной обложкой воспоминания крестьян, причем часть мемуаров вообще печатается впервые, а остальные (за исключением двух) никогда не переиздавались.

Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) – создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник – явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д.), так и по остроте критического отношения к советской власти.