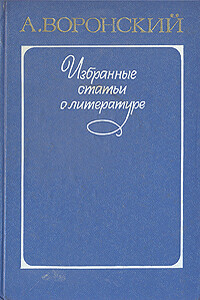Литературные силуэты - [33]
Но Маяковский, как уже отмечалось, кричит и неистовствует с надрывом, с тоской, с истерикой. Его человек уже во многом «скукожился» и вылинял. Он начинает с низких, грудных, властных и полных звуков, но тут же срывается. Он уже сын и дитя Вавилона, он отравлен им.
«Как провести любовь к живому?» Как сохранить в этом каменном бреду богатство, свежесть и силу человека, чтобы он не был «двуногим бессилием»? Как пронести «простое как мычание»? — эти вопросы поставил поэт. Их острота усугубляется тем, что герой Маяковского становится двуногим бессилием «моментально» вопреки всей его незаурядности, крепости мышц и «необычайнейшему» комку. Зараженная земля, перуанец в сажень ростом, превращенный современным волшебником в демона в желтых ботинках, истерически проклинающего мир, — тут есть над чем задуматься. Где выход?
III. Человек и вещь. Не сотвори себе кумира
Маркс утверждал, что в товарном обществе общественные отношения между людьми представляются как общественные отношения между вещами. Вещи фетишизируются. Поэзия Маяковского с замечательной наглядностью иллюстрирует эту глубокую мысль Маркса. Маяковский — фетишист вещи. Выход из каменного лабиринта для своего «о-го-го» он видит исключительно в обладании вещами. Природа — неусовершенствованная вещь. Город превращает человека в двуногое бессилие, но это происходит лишь потому, что вещи, продукты городской культуры, захвачены «повелителем всего, соперником и неодолимым врагом!»[24]. Выход — в уничтожении господства «соперника», в освобождении вещей из-под его ига. Тогда человек создаст свой совершенный рай, в нем вещи покорно и радостно будут ему служить, и он снова вернет себе зычное «о-го-го». В «Войне и мире», в «Мистерии-Буфф», в «150.000.000» будущее обрисовывается, главным образом, с этой вещной точки зрения. Вещи оживают, ходят, у них — руки, ноги, они приветствуют «нечистых», покорно толпятся вокруг них, разъясняют, что раньше служили жирным хозяевам и приносили трудящимся только бесчисленные беды, зовут воспользоваться ими вдосталь и всласть, обещая счастье: «без хлеба нет человеческой власти, без сахару нет человеческой сласти». Что вещи живут, ходят, говорят, — это поэтическая вольность, но она упорно повторяется писателем, и не случайно: он прибегает к ней потому, что для него вещи имеют самоценное, самодовлеющее значение; они как бы действительно живут своей особой жизнью, в них вдунута своя душа. В метафоре поэта есть свой смысл.
Если в Филиппинах против современного Вавилона Маяковский бунтует во имя природного, биологического, то в своих прославлениях городской вещи — машины, мебели, сахара — он становится певцом города. Тут нет противоречия: его герой хочет освободиться и от «наглого ига природы» и от темных сторон нынешнего Вавилона. Признанием ценности для человека продуктов городской культуры Маяковский отделяет себя от поэзии крестьянствующих интеллигентов, для которых машина, завод, фабрика несут одну черную гибель, а социализм представляется торжеством голой механики и математики. Маяковский не боится индустриального социализма; в своей автобиографии он признается: «на всю жизнь поразила способность социалистов распутывать факты, систематизировать мир». Маяковский остро и зло ненавидит Вильсонов и Вильсончиков, буржуа, он задыхается в быту липкого, потного, мелкого и тупого благополучия, и это приближает его к современным борцам за торжество новой общечеловеческой правды. Поэт искренно старается шагать нога в ногу с рабочим классом, уловить и отразить в своей поэзии ритм нашей эпохи. Но и за всем тем социализм Маяковского остается особым его, Маяковского, социализмом, на его индивидуальный лад и образец. Совпадения, слияния с коммунизмом тут нет. Научный коммунизм Маркса и Ленина тоже полагает, что «без хлеба нет человеческой власти», но он утверждает также, что завоевание «хлеба» всем человечеством откроет невиданные и неслыханные возможности для развития, для расцвета не только биологического в людях, но и умственных, но и нравственных и эстетических свойств, заложенных в нем. «Не о хлебе едином будет жив человек»[25] — эту формулу мы принимаем, очищая ее от всего метаэмпирического, мистического, поповского, придавая ей насквозь земное, земнородное толкование.
Маяковский презирает все «духовное», подразумевая под духовным не только Божественное и потустороннее, но и продукты человеческого ума. Для него идеи — только ядовитое войско Вильсонов; книги, философия нагружают голову мусором, Мечников снимает нагар, Лувр — труха, искусство — мерехлюндия и канитель. Во имя сластей, обладания телом любимой, во имя вещей он готов все это разгромить, пустить по ветру. Да здравствует человек и вещь, пусть сгинет все остальное. С первого взгляда это звучит ужасно революционно, но вглядимся немного пристальней в эту революционность. Ветчину, сласти, «еды», лифты, чай надо во что бы то ни стало отдать всему человечеству, но когда для ради ветчины, сластей, чая выбрасывается с легким сердцем Мечников, Руссо, Толстой, Гегель, вся умственная «культуришка», то не проступают ли в этом черты того же самого ограниченного мещанства, которое громит Маяковский? Во имя сластей похерить Мечникова — да ведь это ежедневно, ежечасно делает любой современный мещанин! Он «делает дела», он признает только то, что дает доллар, марку, корону, рубль; для него священны обед, кофе, «еда», кровать, кабаре, вина, кино, театр, авто, метро и т. д. Все остальное — Кант, Дарвин, Мечников, Гомер, Толстой — чудачество, гиль, труха, ненужное праздное препровождение; никто из них доллара не даст и дома не построит. Впрочем, он готов снисходительно признать их, ежели они содействуют его материальному узкому благополучию. Он — крайний утилитарист в науке и в искусстве, ибо признает только, что непосредственно реализуется в полезные для него вещи. Он не видит, не понимает наслаждения от продуктов чисто умственного труда — от книги, от философской, научной системы — это дело каких-то мечтателей, выродков, дурачков, сумасшедших и непонятных людей. Он с удовольствием подмечает, когда великие представители «духовной» культуры подвержены бывают «сластям»: «Толстой-то проповедовал, проповедовал, а между прочим… а Достоевский — знаете про него» и т. д. {Эти стороны художественного мировоззрения Маяковского при известных условиях могут пышно расцвесть в идеологию мещанина нового времени. Достаточно вспомнить следующие превосходные строки из статьи т. Бухарина «Енчмениада» о новом «советском» торгаше: «Он, этот торгаш, — индивидуалист до мозга костей. Он прошел огонь, воду и медные трубы. Он был бит бичами и скорпионами Чека, надевал иногда красную мантию, становился и на «Советскую площадку», получал рекомендации, сидел во узилище, теперь всплыл на снежную вершину своей лавки. Собственными локтями протолкался он и вышел «в люди». Своим умом, энергией, пронырливостью, ловкостью, меняя костюмы, приспособляясь к обстоятельствам, энергично шел по своему пути он, Единственный, «homo novus». He на гербах предков, не на наследствах, не на старых традициях рос он: он всходил, как на дрожжах, на революционной пене, и не раз его поднимала кверху сама революционная волна. Конечно, он «приемлет революцию». Ведь он, в некотором роде, — ее сын, хотя и побочный. Но от этого у него нисколько не меньше самоуверенности, нахальства, саморекламы. Он, Единственный, питает даже надежду оттереть законных детей от революционного наследства и, пролезая через щель советского купца, думает еще раз переодеться, прочно осев в качестве самого настоящего, самого обыкновенного, уже обросшего жирком представителя торгового капитала. Эти надежды окрыляют его. Пройдя все испытания, он мало похож на рассудительные типы Замоскворечья: он шутит, он хвастается, он форсит, он пророчествует о самом себе: «Да приидет царствие Мое»
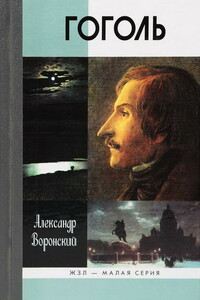
«Эта уникальная книга с поистине причудливой и драматической судьбой шла к читателям долгих семьдесят пять лет. Пробный тираж жизнеописания Гоголя в серии „ЖЗЛ“, подписанный в свет в 1934 году, был запрещен, ибо автор биографии, яркий писатель и публицист, Александр Воронский подвергся репрессиям и был расстрелян. Чудом уцелели несколько экземпляров этого издания. Книга А. Воронского рассчитана на широкий круг читателей. Она воссоздает живой облик Гоголя как человека и писателя, его художественные произведения интересуют биографа в первую очередь в той мере, в какой они отражают личность творца.
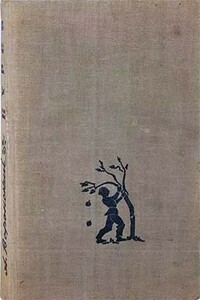
Автобиографический роман А. К. Воронского, названный автором «воспоминаниями с выдумкой». В романе отражены впечатления от учебы в тамбовских духовных учебных заведениях.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В новой книге известного слависта, профессора Евгения Костина из Вильнюса исследуются малоизученные стороны эстетики А. С. Пушкина, становление его исторических, философских взглядов, особенности религиозного сознания, своеобразие художественного хронотопа, смысл полемики с П. Я. Чаадаевым об историческом пути России, его место в развитии русской культуры и продолжающееся влияние на жизнь современного российского общества.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.