Литературное произведение: Теория художественной целостности - [63]
Эта кульминационная строка выделена единственным в стихе цезурным перебоем и чрезвычайно значимым звуковым сращением (миновалось – молодость); этимологически далекие друг от друга миновалось и молодость образуют единый семантический комплекс, действенную только в пределах этого стихотворения родственную группу, индивидуальную «семью» слов. А идущий следом кольцевой повтор (еще раз напоминающий о Фете) оказывается прямым лексико-семантическим контрастом.
«Тебя любить, обнять и плакать над тобой» оказывается невозможным. Локальный лирический мир отринут; он в системе Блока – ушедшая прекрасная поэтическая молодость, которой не дано преодолеть «жизни сон тяжелый», неминуемо входящий в стихи. Преодолеть – в смысле изъять, устранить, забыть этот сон – невозможно, его можно только поэтически постичь. Отрицание Блоком фетовской локальности оказывается устремлением поэта к пушкински всеохватывающему лирическому миру.
Однако в свете блоковского устремления становится очевидной огромная дистанция, разделяющая эти художественные системы. Дело не только в противоположности общего настроения и особенно финалов, где «утвердительное кольцо» Пушкина сменяется отрицательным у Блока. Мы помним, что в качестве одного из устоев стихотворной композиции у Пушкина выступает сразу же вставшее рядом с «чудным мгновеньем» простое и очень емкое «ты», отголоски которого и в прямых повторах, и в рифменной цепи звучат почти во всех строфах. В «ты» свободно и естественно включаются «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь», оно становится синонимом лирического мира, в котором всевмещающее "я" и всеобъемлющее «ты» – адекватные этому миру, равно-достойные ему и друг другу субъекты.
Совсем иначе у Блока. В его стихе «ты» тоже протекающая тема. Но оно все более и более последовательно противостоит лирическому "я". "Я" и «ты» отчленяются друг от друга цезурными разделами («Я звал тебя, но ты не оглянулась. / Я слезы лил, но ты не снизошла»), противопоставляются в ритмически параллельных рядах; и, наконец, в заключительных строках отчетливо выявляется одинокое "я", оставшееся один на один со всем миром, отделенное даже от самого близкого ему «ты». Но при всей трагичности финал этот – творческое состояние. Да, для Блока невозможно то ясное сведение начал и концов, которым он так восхищается у Пушкина: «Перед Пушкиным открыта вся душа – начало и конец душевного движения. Все до ужаса ясно, как линии на руке под микроскопом» >20 . Но для Блока и невозможно не стремиться к этому «конечному единству». Возможность «частичного», локального лирического мира отвергается: «лучше сгинуть в стуже лютой». Но надо любой ценой «Все сущее – увековечить, / Безличное – вочеловечить, / Несбывшееся – воплотить». Потому-то и необходимо лирику всеохватывающее «трагическое миросозерцание». "Оптимизм вообще, – писал Блок, – не сложное и не богатое миросозерцание, обыкновенно исключающее возможность взглянуть на мир как на целое. Его обыкновенное оправдание перед людьми и перед самим собою в том, что он противоположен пессимизму; но он никогда не совпадает также и с трагическим миросозерцанием, которое одно способно дать ключ к пониманию сложности мира" >21 .
Не в поисках иллюзорного выхода из тяжелого сна жизни, а в предельно искреннем, добросовестном и правдивом слове поэта, «мужественно глядящего в лицо миру» >22 , может воплотиться энергия поэтического преодоления мрака и зла. А стих становится формой поэзии лишь тогда, когда его пишет и в нем живет поэт, «сын» и носитель гармонии.
Примечания
1. Шенгели Г. Техника стиха. М., 1960. С. 33.
2. Арсеньев К. Материалы для биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина // Салтыков-Щедрин М. Е. Сочинения. СПб., 1890. Т. 9. С. XX.
3. См.: Тынянов Ю. Н. Проблемы стихотворного языка. М., 1965. С. 47.
4. Напомню, что в русской стиховедческой традиции не раз говорилось «о различных ритмах» стиха: ритм словесно-ударный, ритм интонационно-фразовый и ритм гармонический выделял Б. Томашевский в статье «Проблема стихотворного ритма» (О стихе. Л., 1929); о ритме ударности, ритме созвучности и ритме образности вместе с ритмом строфичности писал С. Балухатый в статье «К вопросу об определении ритма в поэзии» (Изв. Самарского гос. ун-та. 1922. Вып. 3); о «комплексе ритмов» и полиритмии говорил С. М. Бонди в спецкурсе «Теория и история русского стиха».
5. Эти связи раскрываются в цикле исследований по грамматике стиха, проводившемся под руководством М. Л. Гаспарова. См.: Гаспаров М. Л. Лингвистика стиха // Славянский стих. Стиховедение, лингвистика и поэтика. М., 1996.
6. См. об этом: Эйхенбаум Б. М. Мелодика русского лирического стиха // Эйхенбаум Б. М. О поэзии. Л., 1969.
7. Волошинов В. В. Слово в жизни и слово в поэзии // Звезда. 1926. № 6. С. 252, 256.
8. Виноградов В. В. Русский язык. М.; Л., 1947. С. 577.
9. Там же. С. 578.
10. См.: «Изображая действие, обычное в прошедшем, в форме будущего, человек становится на точку ожидания будущего подобного случая» (Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. М., 1888. Т. 4. С. 106).

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Книга доктора филологических наук профессора И. К. Кузьмичева представляет собой опыт разностороннего изучения знаменитого произведения М. Горького — пьесы «На дне», более ста лет вызывающего споры у нас в стране и за рубежом. Автор стремится проследить судьбу пьесы в жизни, на сцене и в критике на протяжении всей её истории, начиная с 1902 года, а также ответить на вопрос, в чем её актуальность для нашего времени.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.

«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.

Появлению статьи 1845 г. предшествовала краткая заметка В.Г. Белинского в отделе библиографии кн. 8 «Отечественных записок» о выходе т. III издания. В ней между прочим говорилось: «Какая книга! Толстая, увесистая, с портретами, с картинками, пятнадцать стихотворений, восемь статей в прозе, огромная драма в стихах! О такой книге – или надо говорить все, или не надо ничего говорить». Далее давалась следующая ироническая характеристика тома: «Эта книга так наивно, так добродушно, сама того не зная, выражает собою русскую литературу, впрочем не совсем современную, а особливо русскую книжную торговлю».

В книге рассматриваются пять рассказов И. А. Бунина 1923 года, написанных в Приморских Альпах. Образуя подобие лирического цикла, они определяют поэтику Бунина 1920-х годов и исследуются на фоне его дореволюционного и позднего творчества (вплоть до «Темных аллей»). Предложенные в книге аналитические описания позволяют внести новые аспекты в понимание лиризма, в особенности там, где идет речь о пространстве-времени текста, о лиминальности, о соотношении в художественном тексте «я» и «не-я», о явном и скрытом биографизме. Приложение содержит философско-теоретические обобщения, касающиеся понимания истории, лирического сюжета и времени в русской культуре 1920-х годов. Книга предназначена для специалистов в области истории русской литературы и теории литературы, студентов гуманитарных специальностей, всех, интересующихся лирической прозой и поэзией XX века.
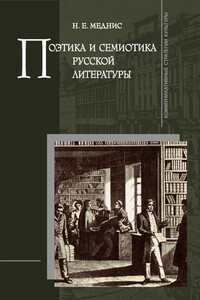
Книга объединяет работы, посвященные поэтике и семиотике русской классической литературы. Значительную часть составляют исследования творчества А. А. Пушкина, а также Ф. М. Достоевского, Ф. И. Тютчева и др. Самостоятельный раздел занимают работы о проблемах исследования сверхтекстов, о семиотике культуры и литературы.Книга адресована специалистам в области истории и теории литературы, филологам, а также всем интересующимся русской классической литературой и русской культурой.