Литературное произведение: Теория художественной целостности - [59]
Созерцая «бездну», неподвижный человек как бы тянется к ней, «он с беспредельным жаждет слиться» и пугается этого слияния. Удивительно то, что в стихотворении «День и ночь» нет ни слова об этом движении. (Это чувство космического «движения без движения» прекрасно передано Фетом в стихотворении «На стоге сена ночью южной…», написанном почти через двадцать лет после «Дня и ночи». Человек неподвижен, и все же:
И вместе с тем это движение с предельной отчетливостью воплощается в ритмико-анафорических параллелизмах и звуковых повторах, которые пронизывают все слова этих строк и объединяют их во все усиливающемся, концентрирующемся и, наконец, доходящем до кульминационного пика интонационном движении:
Нарастание и конденсация – вот, пожалуй, основные особенности представленного здесь интонационного развития, особенности, предметно воплотившиеся прежде всего в четырехкратных повторах сочетания «на», принадлежащего одному из семантических центров стихотворения (слову «бездна»), в одной строке, сочетания «ми», соотнесенного со словом «мир», – в следующей и, наконец, в слиянии этих повторяющихся звеньев на вершине интонационного развития в последнем, кульминационном слове одной из ключевых строк стихотворения: "И нет преград меж ей и нами".
Это вторая и последняя полноударная форма ямба в «Дне и ночи»; и опять, как и в первом случае («Но меркнет день – настала ночь»), полноударность связана с резким внутристрочным противоположением. Причем симметрия словоразделов и внутристрочных ритмических долей делает особенно выразительным совмещение в пределах ритмического ряда утверждения максимального контакта «И нет преград» и столь же явного противостояния «меж ей и нами».
В последней, очень важной для Тютчева местоименной форме пересекаются линии многих ритмико-интонационных и лексико-семантических связей и соответствий: в только что названном слиянии четырехкратно повторяющихся сочетаний «нами», по существу, и отголоски основных слов-символов, семантических центров стихотворения:
В этих связях помимо силы и конденсированности открывается подлинная глубина второго противопоставления, его отличие от первого.
«День и ночь» противопоставлены только как разнонаправленные сущностные силы, но они не противопоставлены во времени. «День» исчезает с наступлением «ночи», «ночь» исчезает с наступлением «дня», хотя они могут намекать друг о друге и «подлинность», «истинность» их в целом неравноправна. Человек же и «бездна» при всей своей противопоставленности могут существовать и существуют одновременно – противопоставление доведено до конечной остроты. На антитезу «день – ночь» накладывается главенствующая антитеза «мы – бездна», причем не только «ночь», но и «день» сдвигается в сторону «бездны», обнаруживая свою функциональную зависимость от нее: «день» прикрывает «бездну», «ночь» обнажает ее. В результате между «днем» и «ночью» возможны довольно мирные отношения – как в позднем тютчевском стихотворении на ту же тему:
В конечном итоге «бездна» вмещает в себя «день» и «ночь». В философской интерпретации она выступает как Универсум, Абсолют и т. п. Вспомним еще раз естественную локальную «бездну» Ломоносова, «полную звезд», чтобы ощутить масштаб и мировоззренческое наполнение тютчевской «бездны», которой поистине нет «преград». Главное в том, что все эти «преграды», призрачные «покровы» создает и уничтожает сама «бездна», как бы «издеваясь» над человеком («Не издеваются ль над нами?»). Но сам человек не может создать их по своей воле – отсюда тревожный вопрос: "И как, спрошу, далось нам это (т. е. «блеск», «свет». – М. Г.) / Так ни с того и ни с сего?.. " Очень важно, что даже уничтожить эти призрачные «покровы» человек не в силах:
Интересно сопоставить в этом отношении стихи Ф. Тютчева и Е. Баратынского. Вот строфа из стихотворения Баратынского «Толпе тревожный день приветен…», опубликованного, кстати, в том же году, что и «День и ночь»:
Следуя Тютчеву, «призрак» мы уничтожить не можем, не «смеем», хотя отлично знаем, что это именно «призрак»; к тому же за этим «призраком» открывается та самая страшная для Тютчева пустота – «бездна», которая, в конце концов, поглотит и самого человека.
Если для Баратынского характерен акцент на специфически действенном акте человеческого размышления – открытии истины («Ощупай возмущенный мрак…»; «Коснися облака нетрепетной рукою…»), то в художественной логике стихотворения Тютчева сущность гораздо более открывается человеку, нежели – человеком; поэт не дает никаких рекомендаций к действию, но заключает стихотворение суровой и дидактически направленной констатацией: «Вот отчего нам ночь страшна!» «Бездна» вскрыта, «обнажена», сущностное ядро обнаружено, но что со всем этим делать, Тютчев не знает.

Естественно, что и песни все спеты, сказки рассказаны. В этом мире ни в чем нет нужды. Любое желание исполняется словно по мановению волшебной палочки. Лепота, да и только!.. …И вот вы сидите за своим письменным столом, потягиваете чаек, сочиняете вдохновенную поэму, а потом — раз! — и накатывает страх. А вдруг это никому не нужно? Вдруг я покажу свое творчество людям, а меня осудят? Вдруг не поймут, не примут, отвергнут? Или вдруг завтра на землю упадет комета… И все «вдруг» в один миг потеряют смысл. Но… постойте! Сегодня же Земля еще вертится!
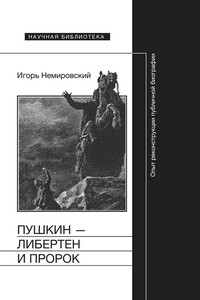
Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух противоположных тенденций: либертинажной, направленной на десакрализацию и профанирование существовавших в его время социальных и конфессиональных норм, и профетической, ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: императором Александром, которому Пушкин-либертен «подсвистывал до самого гроба», и императором Николаем, адресатом «свободной хвалы» Пушкина-пророка.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассматриваются пять рассказов И. А. Бунина 1923 года, написанных в Приморских Альпах. Образуя подобие лирического цикла, они определяют поэтику Бунина 1920-х годов и исследуются на фоне его дореволюционного и позднего творчества (вплоть до «Темных аллей»). Предложенные в книге аналитические описания позволяют внести новые аспекты в понимание лиризма, в особенности там, где идет речь о пространстве-времени текста, о лиминальности, о соотношении в художественном тексте «я» и «не-я», о явном и скрытом биографизме. Приложение содержит философско-теоретические обобщения, касающиеся понимания истории, лирического сюжета и времени в русской культуре 1920-х годов. Книга предназначена для специалистов в области истории русской литературы и теории литературы, студентов гуманитарных специальностей, всех, интересующихся лирической прозой и поэзией XX века.
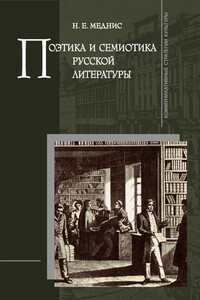
Книга объединяет работы, посвященные поэтике и семиотике русской классической литературы. Значительную часть составляют исследования творчества А. А. Пушкина, а также Ф. М. Достоевского, Ф. И. Тютчева и др. Самостоятельный раздел занимают работы о проблемах исследования сверхтекстов, о семиотике культуры и литературы.Книга адресована специалистам в области истории и теории литературы, филологам, а также всем интересующимся русской классической литературой и русской культурой.