Литературная рабыня: будни и праздники - [8]
На улице меня принимают за свою, и мне нравится это. Мне кажется, что я вернулась на родину, где прошло несколько моих прошлых жизней, потому что я помню плотовщиков, которые плыли когда-то на своих разукрашенных коврами пестрых плотах по реке, рассекающей город на две части.
И я совсем не скучаю по дому. Может быть, оттого, что в любой момент могу сорваться и уехать. Но именно этого я совсем не хочу делать.
Еще через год я начинаю смотреть на приезжих уже совсем здешними глазами… И зачем эта белокурая, направо и налево улыбчивая мадам надела на свой пятидесятый размер короткие шортики, а на свой пятый – футболочку с вырезом по самое некуда? И еще хочет, чтобы местное мужское население не обращало на нее внимания? А, может, она совсем другого хочет? Кто, кроме нее самой, может это знать. А вдруг она обидится, если никто не среагирует и не оценит ее по достоинству? А, может, это просто такое пренебрежение особенностями местного мировосприятия, синдром имперского сознания в бытовой форме? Мол, раз у меня в Чертополохове так принято ходить, значит, и везде на просторах нашей большой и необъятной коммуналки сгодится… И как теперь понять, чего же на самом деле она хочет, если не опытным путем? Местный донжуан цокает языком возле мадам. Изменяя правилу, перехватываю его взгляд. Он понимает, что я понимаю, и улыбается, показывая глазами на блондинку. Сияет солнце. Птицы поют в кронах, заглушая моторы мчащихся вдоль Проспекта машин. Из садика возле метро одуряющее пахнет разгоряченной хвоей и гелиотропами.
В редакции местного, знаменитого на весь Союз литературного журнала меня поят, смотря по сезону, холодным лимонадом или горячим кофе. Я помню, как в Москве мы бегали по бывшей-будущей Тверской от киоска к киоску в поисках свежего номера этого журнала с публикациями, которые столичные маститые издания не могут себе позволить. Перекатывая через Кавказский хребет, волна централизованного маразма теряет силу.
Я смотрю на обшарпанные стены, на старые редакционные столы и думаю о том, в каких непритязательных интерьерах порой делается история. По крайней мере, история литературы. Из редакционных окон открывается вид на городские крыши, и дальше – на простор, замутненный только слезой моего обожания.
Так проходит еще два года. И, что удивительно, я ни в кого не влюблена. Точнее, постоянно влюблена во все: в толпу на улицах, в складки гор, в которые хочется уткнуться лицом, как в материнские колени, в запах жареных кофейных зерен, доносящийся из подвальчиков и раскрытых настежь дверей и окон, в друзей Дочери и друзей дочери Дочери… И, главное, в тутовое дерево, в шелковицу, которая растет возле крутой каменной лестницы, ведущей от одной из верхних улиц к Проспекту прямо возле издательства, где я работаю… Когда поднимаешься к ней, сбивается дыханье. Но потом, стоя жарким летним полднем в ее тени, можно срывать с веток прохладные сладкие густо-фиолетовые ягоды, оставляющие на пальцах детский чернильный след.
Давным-давно мой некогда земляк, уже тогда безоговорочно классик и большой специалист, кстати по красотам Страны, давал нам, салагам, мастер-класс: как пить так, чтобы в течение всего дня чувствовать себя приятно и вдохновенно, чуть выпившим, но не пьяным, а просто на пару градусов выше обычного…
Здесь мне удается это без всякого вина.
Уже почти год я живу самостоятельно. Снимаю маленькую комнату с застекленной верандой-кухней и отдельным входом со двора. Это совсем рядом с главной Площадью, немного вверх, к Ботаническому саду. Во дворе дома растет смоковница, вполне даровитая.
В конце августа ее ветви склоняются под спелыми, размером с детский кулачок, плодами. Их тонкая кожица лопается прямо в руках, а сладостная мякоть растворяется во рту, утоляя одновременно и голод и жажду.
По утрам из окрестных деревень спускаются в город зеленщики и мацонщики. Протяжными возгласами они сообщают о своем появлении. Каждое утро Маро, маленькая смуглая женщина с повязанной черным платком седой головой, оставляет на ступеньке моей веранды баночку мацони и забирает другую, уже пустую баночку и восемьдесят копеек денег. А прямо за углом, на соседней улице, через круглое отверстие в стене в любое время дня и ночи можно купить горячий хлеб.
Жизнь прекрасна. Не может быть, чтобы это когда-нибудь кончилось. С чего бы?
И вот, я не влюблена, не влюблена, но однажды я застаю себя совершенно влюбленной.
Он, как водится, женат. Ну, конечно. В нашем возрасте все уже более или менее женаты или замужем. А уж он точно старше меня лет на пять.
Я долго и мужественно сопротивляюсь своим чувствам. Потом привожу его к Дочери. Если она скажет, что нет, не то, не надо, – так тому и быть. Но ничего такого Дочь не говорит, а напротив, вздохнув, констатирует хрипловатым баском:
– Он очень-очень хороший, мама. Он мне так понравился.
Еще бы. Разве он может не понравиться. Дочь говорит, что знает его маму, она преподает в Университете. А отец у него умер. В этом городе сразу можно получить досье почти на любого местного жителя.
…Года полтора назад Дочь пыталась немножко сватать меня за милого доброго увальня, сына своей дальней родственницы. Правда, ничего из этого не вышло. Кроме охапки фиалок, в художественном беспорядке разбросанной по подоконнику в моей комнате. А с сыном дальней родственницы мы остались хорошими друзьями.

Люба давно уже не смотрела на небо. Все, что могло интересовать Любу, находилось у нее под ногами. Зимой это был снег, а если вдруг оттепель и следом заморозки◦– то еще и лед, по весне – юшка из льда и снега, осенью – сухая листва, а после месиво из нее же, мокрой. Плюс внесезонный мусор. Было еще лето. Летом был все тот же мусор из ближней помойки, растасканный за ночь бездомными собаками (потом конкуренцию им составили бездомные люди), на газонах бутылки из-под пива (а позже и пивные банки), окурки, сорванные со стен объявления и собачье дерьмо.

Повесть «Любовный канон» – это история любви на фоне 1980—1990-х годов. «Ничто не было мне так дорого, как ощущение того тепла в груди, из которого рождается всё, и которое невозможно передать словами. Но именно это я и пытаюсь делать», – говорит героиня «Любовного канона». Именно это сделала Наталия Соколовская, и, как представляется, успешно. Драматические коллизии Соколовская показывает без пафоса, и жизнь предстает перед нами такой, какая она есть. То есть, по словам одной из героинь Франсуазы Саган, – «спокойной и душераздирающей одновременно».С «Любовным каноном» Наталия Соколовская стала лауреатом Премии им.

«…Схваченный морозом виноград был упоительно вкусным, особенно самые промороженные ягоды, особенно когда они смешивались со вкусом слез. Анна знала – не всякому счастливцу дано испробовать это редкое сочетание»«Сострадательное понимание – вот та краска, которую Наталия Соколовская вносит в нынешний «петербургский текст» отечественной литературы. Тонкая наблюдательность, необидный юмор, легкая и динамичная интонация делают ее прозу современной по духу, открытой для живого, незамороченного читателя» (Ольга Новикова, прозаик, член редколлегии журнала «Новый мир»).В оформлении обложки использована работа Екатерины Посецельской.

Славик принадлежал к той категории населения, для которой рекламки возле метро уже не предназначались. Бойкие девушки и юноши протягивали направо-налево листочки с информацией об услугах и товарах, но Славика упорно игнорировали. Точно он был невидимкой. Ничего странного для Славика в этом не было. Он знал, что лично его – нет. И не обижался…
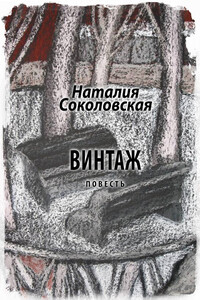
В больничный двор Латышев вышел, когда стало смеркаться. Воздух был свежим и горьким. Латышев ступил на газон, поворошил ботинком прелые листья. Пронзительный, нежный запах тления усилился. Латышев с удовольствием сделал несколько глубоких вдохов, поддался легкому головокружению и шагнул за ворота…

Все, что казалось простым, внезапно становится сложным. Любовь обращается в ненависть, а истина – в ложь. И то, что должно было выплыть на поверхность, теперь похоронено глубоко внутри.Это история о первой любви и разбитом сердце, о пережитом насилии и о разрушенном мире, а еще о том, как выжить, черпая силы только в самой себе.Бестселлер The New York Times.
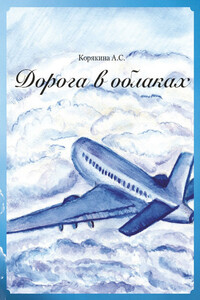
Из чего состоит жизнь молодой девушки, решившей стать стюардессой? Из взлетов и посадок, встреч и расставаний, из калейдоскопа городов и стран, мелькающих за окном иллюминатора.
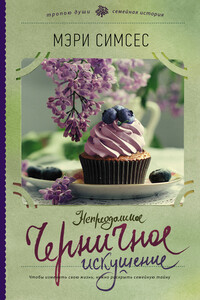
Эллен хочет исполнить последнюю просьбу своей недавно умершей бабушки – передать так и не отправленное письмо ее возлюбленному из далекой юности. Девушка отправляется в городок Бейкон, штат Мэн – искать таинственного адресата. Постепенно она начинает понимать, как много секретов долгие годы хранила ее любимая бабушка. Какие встречи ожидают Эллен в маленьком тихом городке? И можно ли сквозь призму давно ушедшего прошлого взглянуть по-новому на себя и на свою жизнь?

Самая потаённая, тёмная, закрытая стыдливо от глаз посторонних сторона жизни главенствующая в жизни. Об инстинкте, уступающем по силе разве что инстинкту жизни. С которым жизнь сплошное, увы, далеко не всегда сладкое, но всегда гарантированное мученье. О блуде, страстях, ревности, пороках (пороках? Ха-Ха!) – покажите хоть одну персону не подверженную этим добродетелям. Какого черта!

Представленные рассказы – попытка осмыслить нравственное состояние, разобраться в проблемах современных верующих людей и не только. Быть избранным – вот тот идеал, к которому люди призваны Богом. А удается ли кому-либо соответствовать этому идеалу?За внешне простыми житейскими историями стоит желание разобраться в хитросплетениях человеческой души, найти ответы на волнующие православного человека вопросы. Порой это приводит к неожиданным результатам. Современных праведников можно увидеть в строгих деловых костюмах, а внешне благочестивые люди на поверку не всегда оказываются таковыми.

В жизни издателя Йонатана Н. Грифа не было места случайностям, все шло по четко составленному плану. Поэтому даже первое января не могло послужить препятствием для утренней пробежки. На выходе из парка он обнаруживает на своем велосипеде оставленный кем-то ежедневник, заполненный на целый год вперед. Чтобы найти хозяина, нужно лишь прийти на одну из назначенных встреч! Да и почерк в ежедневнике Йонатану смутно знаком… Что, если сама судьба, росчерк за росчерком, переписала его жизнь?