Литературная рабыня: будни и праздники - [14]
У него холодная колючая щека и чужой запах. Запах гари и пороха. На нем его летный свитер с оттянутым воротом и куртка. И камера через плечо. Он высыпает на стол пригоршню стреляных гильз. Говорит, что подобрал с пола в своем корпункте. От этого вещдока меня начинает колотить. Ставлю чайник на плиту и спрашиваю:
– И на чьей же стороне ты работаешь?
Он похудел за последние дни, и под глазами у него синие круги. И не стоило бы мне затевать этот разговор.
– С обеих сторон. Свои и там и там.
– Вот они и влепят тебе по-свойски. Одни – в спину, другие – в грудь. А ты, небось, уже спишь и видишь себя лауреатом Пулитцеровской премии?
Ираклий откидывается на спинку стула, молчит, закрывает глаза. И я понимаю, как он измотан. И несчастен.
– Я просто снимаю их лица. Потом, когда-нибудь, они увидят себя на этих фотографиях и ужаснутся. Вот и все.
Чайник никак не закипает. Я рассказываю Ираклию, как вчера убили мужчину из соседнего двора. Он с товарищем поехал на машине, чтобы раздобыть продукты, на окраине или за городом. На выезде их пыталась остановить группа вооруженных людей. Но они не остановились, потому что в городе промышляют разбоем вооруженные бандиты. В них начали палить из автоматов. Одного убили, другой добрался до дому чуть живой, с простреленным плечом…
Ираклий слушает, кивает, но мысленно он не здесь. И я понимаю, что мой рассказ ни в какое сравнение не идет с тем, что он видит каждый день там, у себя, на Проспекте. Я умолкаю и просто смотрю на Ираклия. Чайник кипит, а я сижу и смотрю. Ничего более прекрасного я в жизни своей не видела. Он встряхивает головой, точно отгоняет от себя что-то, встает и надевает куртку.
– А ну его, этот чай. Пойдем. В Старом городе работают кафе. Посидим и вернемся.
Старый город от центра, то есть от места боевых действий, отделяет десять минут ходу. Но мне кажется, что мы попали в параллельный мир.
Сумерки. Двери Кафедрального собора открыты, и мы видим дрожащие нимбы свечей и нескольких молящихся. И этот подвижный горячий свет, не выступающий из храма в наружную мглу, – завораживает.
Мы входим, покупаем свечи. Я не могу отделаться от мысли, что все это кино. Какой-то итальянский неореализм. Так жизненно, что перестает быть правдой.
Я вижу все как бы со стороны. Вот мы ставим свечи. Ираклий крестится, а левой рукой машинально придерживает на груди камеру. Я прижимаюсь к нему плечом. И так мы стоим некоторое время.
Потом выходим из храма, сворачиваем в одну из маленьких узких улочек с резными балконами. И правда, открытое кафе. И люди сидят за столиками. И какая-то отдельная тишина. Несмотря на то что довольно близко стреляют.
Из углового динамика негромко звучит гитарный проигрыш великой песни. «Добро пожаловать в отель „Калифорния“. Такое милое местечко…» Мне почти хорошо. Кофе, сваренный на горячем песке, запах жареных зерен – все это из другой жизни. Или уже из этой? От раздвоения голова у меня идет кругом. «…Добро пожаловать в отель „Калифорния“… Это может быть рай, или это может быть ад…» Полумрак. На столиках в стеклянных плошках горят низенькие свечки. Не для колорита – светомаскировка. И я говорю, что купила билет на самолет. Только это.
– Я виноват. – Ираклий опускает голову и ерошит пятерней волосы. – За полтора года не сделал ничего. И сейчас тебе просто страшно.
– А я ничего не просила. И мне не страшно. Иначе не сидела бы здесь с тобой. И вообще… Ты даже не представляешь, как я счастлива. Сейчас особенно.
Всё внутри у меня звенит. И говорю я больше, чем положено в этой ситуации. Наверное, потому, что боюсь сказать самое важное. Сейчас соберусь с духом и скажу.
Но в этот момент прямо над нами пролетает самолет. Он летит низко, на бреющем полете, и земля вместе с домами и всем в них содержимым начинает дрожать крупной дрожью. Мы сидим, сцепившись поверх стола руками, и смотрим друг другу в глаза. Может, это последнее, что нам суждено увидеть в жизни. «…Добро пожаловать в отель „Калифорния“…»
Самолет пролетает, а через несколько секунд в центре раздается взрыв. И чашки с кофе подпрыгивают.
Вот новость. С воздуха еще не бомбили ни разу. Мы с трудом разнимаем руки. На ладонях – вмятины от ногтей.
– Аэропорт закрыт, – говорит Ираклий, как будто ничего не произошло.
– Откроют. А если не откроют, то я останусь. Орел или решка.
Потом мы идем домой по темной и пустой улице. Я закрываю глаза, чтобы сосредоточиться на каком-нибудь источнике света. В районе Проспекта стреляют из автоматов. И я чувствую, как зубы у меня начинают стучать. «Какое милое местечко… Это может быть рай, или это может быть ад…»
– Дня через три-четыре все закончится. Вот увидишь.
Ираклий крепко прижимает меня к своему плечу, и теперь к моей дрожи добавляется стук его сердца. Не кончится. Здесь, между раем и адом, ничто не кончается. Никогда. В лимбе не бывает перемен.
Наш двор словно вымер. На земле валяются осколки стекол. Это вылетели окна верхнего этажа. Я хватаю Ираклия за руки и прошу, чтобы он не уходил. Он говорит, что только смотается на Проспект и тут же вернется. Выстрелов не слышно. Тишина. Совсем поубивали они друг друга, что ли…

Люба давно уже не смотрела на небо. Все, что могло интересовать Любу, находилось у нее под ногами. Зимой это был снег, а если вдруг оттепель и следом заморозки◦– то еще и лед, по весне – юшка из льда и снега, осенью – сухая листва, а после месиво из нее же, мокрой. Плюс внесезонный мусор. Было еще лето. Летом был все тот же мусор из ближней помойки, растасканный за ночь бездомными собаками (потом конкуренцию им составили бездомные люди), на газонах бутылки из-под пива (а позже и пивные банки), окурки, сорванные со стен объявления и собачье дерьмо.

Повесть «Любовный канон» – это история любви на фоне 1980—1990-х годов. «Ничто не было мне так дорого, как ощущение того тепла в груди, из которого рождается всё, и которое невозможно передать словами. Но именно это я и пытаюсь делать», – говорит героиня «Любовного канона». Именно это сделала Наталия Соколовская, и, как представляется, успешно. Драматические коллизии Соколовская показывает без пафоса, и жизнь предстает перед нами такой, какая она есть. То есть, по словам одной из героинь Франсуазы Саган, – «спокойной и душераздирающей одновременно».С «Любовным каноном» Наталия Соколовская стала лауреатом Премии им.

«…Схваченный морозом виноград был упоительно вкусным, особенно самые промороженные ягоды, особенно когда они смешивались со вкусом слез. Анна знала – не всякому счастливцу дано испробовать это редкое сочетание»«Сострадательное понимание – вот та краска, которую Наталия Соколовская вносит в нынешний «петербургский текст» отечественной литературы. Тонкая наблюдательность, необидный юмор, легкая и динамичная интонация делают ее прозу современной по духу, открытой для живого, незамороченного читателя» (Ольга Новикова, прозаик, член редколлегии журнала «Новый мир»).В оформлении обложки использована работа Екатерины Посецельской.
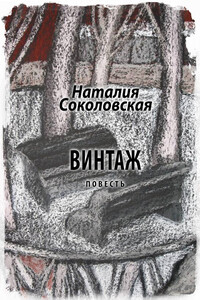
В больничный двор Латышев вышел, когда стало смеркаться. Воздух был свежим и горьким. Латышев ступил на газон, поворошил ботинком прелые листья. Пронзительный, нежный запах тления усилился. Латышев с удовольствием сделал несколько глубоких вдохов, поддался легкому головокружению и шагнул за ворота…

Славик принадлежал к той категории населения, для которой рекламки возле метро уже не предназначались. Бойкие девушки и юноши протягивали направо-налево листочки с информацией об услугах и товарах, но Славика упорно игнорировали. Точно он был невидимкой. Ничего странного для Славика в этом не было. Он знал, что лично его – нет. И не обижался…

Какова природа удовольствия? Стоит ли поддаваться страсти? Грешно ли наслаждаться пороком, и что есть добро, если все захватывающие и увлекательные вещи проходят по разряду зла? В исповеди «О моем падении» (1939) Марсель Жуандо размышлял о любви, которую общество считает предосудительной. Тогда он называл себя «грешником», но вскоре его взгляд на то, что приносит наслаждение, изменился. «Для меня зачастую нет разницы между людьми и деревьями. Нежнее, чем к фруктам, свисающим с ветвей, я отношусь лишь к тем, что раскачиваются над моим Желанием».

ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА Какое человеческое чувство сильнее всех? Конечно же любовь. Любовь вопреки, любовь несмотря ни на что, любовь ради торжества красоты жизни. Неужели Барбара наконец обретёт мир и большую любовь? Ответ - на страницах этого короткого романа Паскуале Ферро, где реальность смешивается с фантазией. МАЧЕДОНИЯ И ВАЛЕНТИНА. МУЖЕСТВО ЖЕНЩИН Женщины всегда были важной частью истории. Женщины-героини: политики, святые, воительницы... Но, может быть, наиболее важная борьба женщины - борьба за её право любить и жить по зову сердца.

«Песчаный берег за Торресалинасом с многочисленными лодками, вытащенными на сушу, служил местом сборища для всего хуторского люда. Растянувшиеся на животе ребятишки играли в карты под тенью судов. Старики покуривали глиняные трубки привезенные из Алжира, и разговаривали о рыбной ловле или о чудных путешествиях, предпринимавшихся в прежние времена в Гибралтар или на берег Африки прежде, чем дьяволу взбрело в голову изобрести то, что называется табачною таможнею…

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Что между ними общего? На первый взгляд ничего. Средневековую принцессу куда-то зачем-то везут, она оказывается в совсем ином мире, в Италии эпохи Возрождения и там встречается с… В середине XVIII века умница-вдова умело и со вкусом ведет дела издательского дома во французском провинциальном городке. Все у нее идет по хорошо продуманному плану и вдруг… Поляк-филолог, родившийся в Лондоне в конце XIX века, смотрит из окон своей римской квартиры на Авентинский холм и о чем-то мечтает. Потом с риском для жизни спускается с лестницы, выходит на улицу и тут… Три персонажа, три истории, три эпохи, разные страны; три стиля жизни, мыслей, чувств; три модуса повествования, свойственные этим странам и тем временам.

Герои романа выросли в провинции. Сегодня они — москвичи, утвердившиеся в многослойной жизни столицы. Дружбу их питает не только память о речке детства, об аллеях старинного городского сада в те времена, когда носили они брюки-клеш и парусиновые туфли обновляли зубной пастой, когда нервно готовились к конкурсам в московские вузы. Те конкурсы давно позади, сейчас друзья проходят изо дня в день гораздо более трудный конкурс. Напряженная деловая жизнь Москвы с ее индустриальной организацией труда, с ее духовными ценностями постоянно испытывает профессиональную ответственность героев, их гражданственность, которая невозможна без развитой человечности.