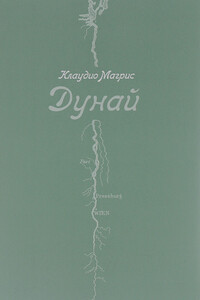Литература и право: противоположные подходы ко злу - [2]
Стремясь во что бы то ни стало сохранить свою чистоту и невинность, нельзя не нарушить хоть какой-то, хоть малый закон: "Все противозаконно", — говорит Фишерле в «Ослеплении» Канетти.[8] Я позволю себе процитировать и свою пьесу «Выставка», один из персонажей которой — Тиммель — бормочет в бреду: "Вина уже была, вина была изначально, прежде всего. Действия сами по себе невинны, быть — вот в чем вина. <…> Пучина закона — я в нее упал и продолжаю падать, это падение без конца и без дна, жизнь и есть закон, жаль, что я не родился мертвым". В новелле "Михаэль Кольхаас" — лучшем из текстов, повествующих о духе и букве закона, о его нарушении и жажде справедливости, — Клейст показывает, что насилие неразрывно и трагически связано со священной потребностью добиваться справедливости и самому творить правосудие.
Поэзия так же, как жизнь и любовь, жаждет милости, а не закона. Она не столько судит, сколько рассказывает — как будто следуя евангельскому призыву: "Не судите, да не судимы будете".[9] На самом деле искусство, конечно, судит, но суждение спрятано внутри повествования, никто никого не осуждает и не выносит приговор. Нам просто показывают, что такое добро и зло, погруженные в жизнь и слитые с нею. Джозеф Конрад никому не читает проповедей. Но в "Лорде Джиме" он как бы позволяет читателю пощупать рукой плоть и правду жизни: прочувствовать, что значит повиноваться морали или идти против нее, хранить верность или быть предателем, оставаться на своем посту или дезертировать, бросив других на произвол жестокой и несправедливой судьбы.
Литература, призванная повиноваться своей безответственной природе, не знающей морального долга и подчинения сводам законов, раскрывает здесь собственную глубинную и противоречивую моральную сущность. Враждебная абстрактному и бесплотному закону, она сама становится воплощением закона. Основатели религий и творцы этических учений нуждаются в литературе: они говорят притчами, в которых абстрактная моральная истина, которая в ином случае вызывала бы смертельную скуку, обретает конкретную жизнь, становится эпическим повествованием о жизни. Тора, самый знаменитый комментарий к закону, — это великое талмудическое повествование. То есть эпичность, которая изначально допускала «целостное» существование по ту сторону добра и зла, может включать суждение или представление о том, что за преступлением неизбежно следует наказание. Так, Раскольников — хотя он убежден в своей неповторимости, непохожести на других, несводимости к параграфам закона — в конце романа все-таки внутренне смиряется с тем, что его ждут каторга и Сибирь.
Начиная с первых шагов нашей цивилизации люди противопоставляли закону, то есть кодифицированному праву, универсальные человеческие ценности, которые не могут быть упразднены никакой позитивной нормой. Так, когда Креонт устанавливает неправедный закон, отрицающий свойственные всем людям чувства и нравственные ценности, Антигона противопоставляет этому закону "неписаные законы богов": заповеди и абсолютные принципы, на которые не вправе посягать ни одна власть. Шедевр Софокла трагически отражает конфликт между человечностью и законом, иными словами — между правом и законом.
Несправедливый указ Креонта — это позитивный закон,[10] имеющий конкретное содержание. Антигона противопоставляет новому закону не кодифицированное право, а, если можно так сказать, право, установленное обычаем, связанное с милосердием и авторитетом традиции, которая предстает здесь как хранилище универсальных нравственных ценностей. Такое право выше, чем позитивный закон. В данном случае оно соответствует категорическому императиву. Антигона — это вечный символ сопротивления несправедливым законам, тирании, злу: мы чтим как героев и мучеников брата и сестру Шолль и теолога Бонхёффера,[11] которые, подобно Антигоне, восстали против закона государства — нацистского государства, попиравшего человечность, — и заплатили за это жизнью.
Но «Антигона» — трагедия, то есть не просто жесткое противопоставление безупречной невинности и огромной вины, а еще и конфликт: здесь нельзя встать на чью-то сторону, не приняв на себя, какими бы благородными ни были наши намерения, часть вины. Гениальный Софокл не изобразил Креонта чудовищем и тираном. Это не Гитлер, а подлинный правитель, который чувствует ответственность за благополучие и безопасность своего города и потому должен учитывать (в силу "этики ответственности", о которой писал Макс Вебер
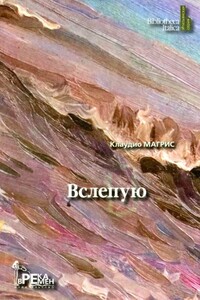
Клаудио Магрис (род. 1939 г.) — знаменитый итальянский писатель, эссеист, общественный деятель, профессор Триестинского университета. Обладатель наиболее престижных европейских литературных наград, кандидат на Нобелевскую премию по литературе. Роман «Вслепую» по праву признан знаковым явлением европейской литературы начала XXI века. Это повествование о расколотой душе и изломанной судьбе человека, прошедшего сквозь ад нашего времени и испытанного на прочность жестоким столетием войн, насилия и крови, веком высоких идеалов и иллюзий, потерпевших крах.
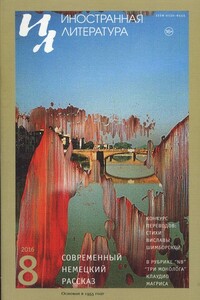
В рубрике «NB» — «Три монолога» итальянца Клаудио Магриса (1939), в последние годы, как сказано во вступлении переводчика монологов Валерия Николаева, основного претендента от Италии на Нобелевскую премию по литературе. Первый монолог — от лица безумца, вступающего в сложные отношения с женскими голосами на автоответчиках; второй — монолог человека, обуянного страхом перед жизнью в настоящем и мечтающего «быть уже бывшим»; и третий — речь из небытия, от лица Эвридики, жены Орфея…
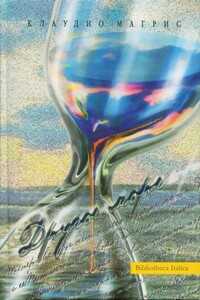
Действие романа «Другое море» начинается в Триесте, где Клаудио Магрис живет с детства (он родился в 1939 году), и где, как в портовом городе, издавна пересекались разные народы и культуры, европейские и мировые пути. Отсюда 28 ноября 1909 года отправляется в свое долгое путешествие герой - Энрико Мреуле. Мы не знаем до конца, почему уезжает из Европы Энрико, и к чему стремится. Внешний мотив - нежелание служить в ненавистной ему армии, вообще жить в атмосфере милитаризованной, иерархичной Габсбургской империи.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

В книге известного историка литературы, много лет отдавшего изучению творчества М. А. Булгакова, биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца проясненные моменты его судьбы. Читатели узнают много нового. В частности, о том, каким был путь Булгакова в Гражданской войне, какие непростые отношения связывали его со Сталиным. Подробно рассказана и история взаимоотношений Булгакова с его тремя женами — Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской и Е. С. Нюренберг (Булгаковой).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.