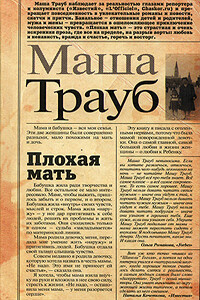Лишние дети - [2]
Мы все чувствовали себя одинокими. Даже дети из приличных семей, все были равны в своем одиночестве. Да, мы ощущали себя лишними. Как в детской игре, которой нас изрядно мучили с младшей группы – «третий лишний». Мы были лишними, мешающими родителям спокойно жить, работать, ссориться, мириться, заводить новых детей, уезжать в командировки. Мы становились лишними дома, поэтому нас отдавали в детский сад. Наши родители – такие же лишние дети, только выросшие. Они считали, что если ребенок не ходит в садик, то он не выживет в школе, не подготовится к жизни. И ему будет непременно плохо потом. А о том, что нам, детям, было плохо сейчас, никто не думал. Садик считался обязательным пунктом в жизненной программе, по которой жили наши родители и их родители, и наших детей ждала та же участь – ясли, детский сад, школа, институт, работа. Коллектив. Начальство. Праздники и отпуск, согласно графику. Больничный лучше не брать.
Друзья-товарищи? Нет. Привязанность к кому-то в саду приравнивалась к подарку судьбы, потому что друзья в любой момент могли исчезнуть – перейти в другой садик, уехать, получить диагноз. Дети «по прописке» не могли дружить с «приличными» детьми – слишком разный уровень жизни, слишком различались мы сами, а родители поддерживали это убеждение. Да, бывали случаи, когда дружили мамы детей из одной группы, и тогда дети тоже общались. Но нередко ненавидели друг друга. И пока мамы дружили, их отпрыски готовились к уничтожению товарища по неволе. К счастью, все заканчивалось ушибом или вывихом, разбитой губой, сломанной любимой игрушкой. Иногда мамы ссорились и переставали дружить, а детям, еще вчера обреченным на общение, полагалось игнорировать друга. Вот тогда бывшие враги и находили общий язык. Назло родительницам.
К старшей группе мы убеждали себя в том, что друзей лучше не заводить, чтобы потом не терять их и не испытывать боли разлуки. Не всем это удавалось, я так и не справилась с заданием. Мы, наше поколение, научились одиночеству. И в этом заключалась наша сила. Но если дружба случалась, как у меня, например, то эта связь становилась крепче семейных уз. Семья? Никто из нас не жил в нормальной семье. Да мы и не знали, что считается «нормальным». Но мы научились не бояться взрослых, ведь они хуже нас, детей. Взрослые на поверку оказывались еще более одинокими, чем мы. Врали они уж точно ловчее нас. И даже умудрялись растерять все то хорошее, что имели мы, – чувства. Благодарность, признательность, искренность. Способность любить, горевать, прощать, начинать все сначала. Нас не учили любить, радоваться, восхищаться, гордиться. Нас учили выживать, врать, терпеть, страдать молча, не показывать своих слез. Нас учили приспосабливаться, вливаться в коллектив, становиться тенью, желательно немой и глухой. Наше поколение – холодное, жесткое, циничное, нервное и при всем при этом очень отзывчивое, сохранившее доброту и навык удивляться, радоваться и ценить то, что имеешь.
Что мы узнавали с раннего детства? Нельзя «якать» и выставлять себя или свои достижения напоказ. «Я – последняя буква алфавита», – твердили все поголовно воспитательницы. Запрещалось говорить «я могу», «я умею»: это считалось неприличным, хвастовством. Не дай бог было подумать про себя, что ты лучше, красивее, умнее, талантливее всех. Выживали дети с психологией середнячка. Пока лучших давили, а над слабыми издевались (что делали и дети и взрослые), эти середнячки могли жить спокойно. Мы росли без тактильных ощущений. Нас не обнимали, не целовали. «Телячьи нежности»; «Нечего нюни разводить»; «Мальчики не плачут»; «Мальчиков нельзя целовать – вырастут хлюпиками»; «Нельзя обнимать девочек – жизнь их потом не обнимет». Однажды я увидела, как мама при всех целует свою дочь, и замерла от этого зрелища, настолько пронзительного, что хотелось заплакать. «Вот вы ее опять лижете! – рявкнула воспитательница. – А мне с ней что потом делать?» Мама резко отстранилась от дочери, словно от чужой девочки. Словно «облизывание» приравнивалось к преступлению, из-за чего весь воспитательный процесс пошел бы насмарку. Да, я не слышала слова «поцелуй». Я слышала «лизаться». Объятия – такого слова тоже не существовало в нашем лексиконе. Существительное заменял глагол «тискаться», который резал мне уши. Мне не нравилось, как звучат эти слова – «лизаться», «тискаться». А еще был глагол «сосаться», но он считался совсем неприличным. Его ни в коем случае нельзя было повторять. Хотя впервые я его услышала, когда увидела родителей одной девочки. Ее папа с мамой вдруг остановились и поцеловались. И воспитательница сказала, что они «опять сосутся», и произнесла это таким тоном, будто они делали совсем уж что-то неприличное и стыдное.
Я не помню, как ни стараюсь, чтобы мама меня обняла или поцеловала. Даже на ночь. Мы бежали навстречу родителям, которые приходили нас забрать вечером из сада, и резко тормозили, наталкиваясь на непробиваемый щит. Отскакивали от него и делали вид, что вовсе и не бежали. Мама целовала меня в день моего рождения – чмокала в макушку. Нас не хвалили за успехи, чтобы мы «не зазнались». Поцелуи и объятия считались позволительными только бабушкам, поскольку «что с нее взять – избаловала ребенка, вот он и сел на голову, а скоро и ноги свесит». К бабушкам относились как к неизбежному злу, которое – это самое зло – может только испортить ребенка и навредить ему, но с ним приходилось считаться. У меня бабушки не было. Не знаю, каково это – быть расцелованной, закормленной и залюбленной вопреки всем запретам.

С момента выхода «Дневника мамы первоклассника» прошло девять лет. И я снова пошла в школу – теперь с дочкой-первоклассницей. Что изменилось? Все и ничего. «Ча-ща», по счастью, по-прежнему пишется с буквой «а», а «чу-щу» – через «у». Но появились родительские «Вотсапы», новые праздники, новые учебники. Да, забыла сказать самое главное – моя дочь пошла в школу не 1 сентября, а 11 января, потому что я ошиблась дверью. Мне кажется, это уже смешно.Маша Трауб.

Так бывает – тебе кажется, что жизнь вполне наладилась и даже удалась. Ты – счастливчик, все у тебя ровно и гладко. И вдруг – удар. Ты словно спотыкаешься на ровной дороге и понимаешь, что то, что было раньше, – не жизнь, не настоящая жизнь.Появляется человек, без которого ты задыхаешься, физически не можешь дышать.Будь тебе девятнадцать, у тебя не было бы сомнений в том, что счастье продлится вечно. Но тебе почти сорок, и ты больше не веришь в сказки…
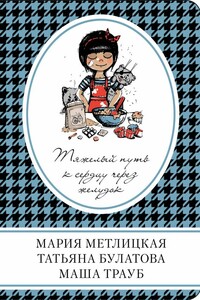
Каждый рассказ, вошедший в этот сборник, — остановившееся мгновение, история, которая произойдет на ваших глазах. Перелистывая страницу за страни-цей чужую жизнь, вы будете смеяться, переживать за героев, сомневаться в правдивости историй или, наоборот, вспоминать, что точно такой же случай приключился с вами или вашими близкими. Но главное — эти истории не оставят вас равнодушными. Это мы вам обещаем!
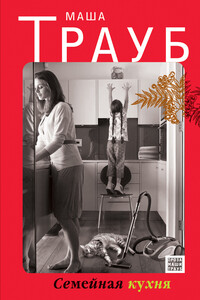
В этой книге я собрала истории – смешные и грустные, счастливые и трагические, – которые объединяет одно – еда.
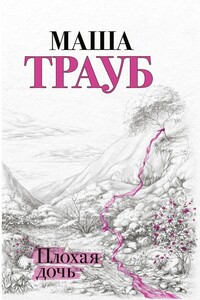
Десять лет назад вышла моя книга «Плохая мать». Я начала ее писать спустя две недели после рождения дочери. Мне нужно было выплеснуть на бумагу вдруг появившееся осознание – мы все в определенные моменты боимся оказаться плохими родителями. Недолюбившими, недоцеловавшими, недодавшими что-то собственным детям. «Плохая дочь» – об отношениях уже взрослой дочери и пожилой матери. И она опять об ответственности – уже дочерней или сыновьей – перед собственными родителями. О невысказанных обидах, остром желании стать ближе, роднее.
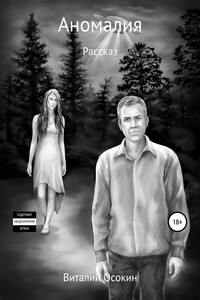
Тайна Пермского треугольника притягивает к себе разных людей: искателей приключений, любителей всего таинственного и непознанного и просто энтузиастов. Два москвича Семён и Алексей едут в аномальную зону, где их ожидают встречи с необычным и интересными людьми. А может быть, им суждено разгадать тайну аномалии. Содержит нецензурную брань.
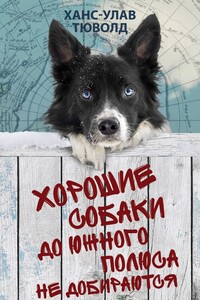
Шлёпик всегда был верным псом. Когда его товарищ-человек, майор Торкильдсен, умирает, Шлёпик и фру Торкильдсен остаются одни. Шлёпик оплакивает майора, утешаясь горами вкуснятины, а фру Торкильдсен – мегалитрами «драконовой воды». Прежде они относились друг к дружке с сомнением, но теперь быстро находят общий язык. И общую тему. Таковой неожиданно оказывается экспедиция Руаля Амундсена на Южный полюс, во главе которой, разумеется, стояли вовсе не люди, а отважные собаки, люди лишь присвоили себе их победу.
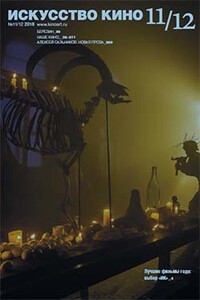
Новелла, написанная Алексеем Сальниковым специально для журнала «Искусство кино». Опубликована в выпуске № 11/12 2018 г.
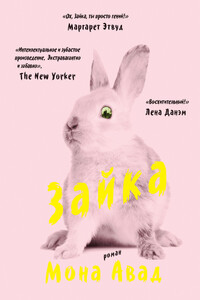
Саманта – студентка претенциозного Университета Уоррена. Она предпочитает свое темное воображение обществу большинства людей и презирает однокурсниц – богатых и невыносимо кукольных девушек, называющих друг друга Зайками. Все меняется, когда она получает от них приглашение на вечеринку и необъяснимым образом не может отказаться. Саманта все глубже погружается в сладкий и зловещий мир Заек, и вот уже их тайны – ее тайны. «Зайка» – завораживающий и дерзкий роман о неравенстве и одиночестве, дружбе и желании, фантастической и ужасной силе воображения, о самой природе творчества.
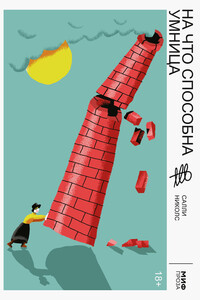
Три смелые девушки из разных слоев общества мечтают найти свой путь в жизни. И этот поиск приводит каждую к борьбе за женские права. Ивлин семнадцать, она мечтает об Оксфорде. Отец может оплатить ее обучение, но уже уготовил другое будущее для дочери: она должна учиться не латыни, а домашнему хозяйству и выйти замуж. Мэй пятнадцать, она поддерживает суфражисток, но не их методы борьбы. И не понимает, почему другие не принимают ее точку зрения, ведь насилие — это ужасно. А когда она встречает Нелл, то видит в ней родственную душу.
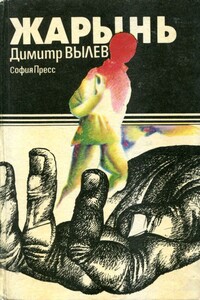
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.