Лики истории в "Historia Augusta" - [2]
В девяти случаях из десяти ложь продиктована либо ненавистью к правящему монарху, либо угодничеством перед ним. Портрет Галлисна — попросту пасквиль, порожденный злобой сенаторов; характеристика Клавдия Готского не более правдива, чем современная предвыборная речь или надгробное слово XVII века. Без сомнения, ненавистью и подобострастием дышат прежде всего жизнеописания монархов, близких по времени к биографам, но и императоры, относящиеся к более отдаленному прошлому, также нарисованы черной или белой краской в зависимости от политических установок составителя хроники и современного ему правителя. Конечно, Коммод был скверным императором, но его жизнеописание у Лампридия — не что иное, как яростная, но запоздалая обвинительная речь, в итоге вызывающая у читателя желание вступиться за это выставленное на позор животное. В целом историки поддерживают группу плутократов и консерваторов, в которую превратился сенат; поскольку лучшие из императоров решительно урезали синекуры сенаторов, этих правителей поносят; зато худших прославляют, если они — выходцы из сенаторских рядов или если сенат сделал на них ставку. Но не следует требовать чрезмерной основательности от авторов жизнеописаний. Их ошибки, по-видимому, объясняются не только предубеждениями, но чаще — праздным любопытством (и потому они без тени критики принимают какие угодно непроверенные слухи), конформизмом, в силу которого они, не моргнув глазом, соглашаются с любой официальной версией событий, а также — по крайней мере, если говорить о первой части сборника, — разрывом во времени.
В самом деле, даже согласно наиболее благоприятной гипотезе, авторы портретов отделены от своих великих моделей — Антонинов — дистанцией в четыре-пять поколений. Конечно, античный историк не впервые оказывается столь удаленным (а случалось, что и гораздо более удаленным) от описываемого персонажа. Но в эпоху Плутарха античный мир был еще достаточно однородным, и греческий биограф, несмотря на дистанцию примерно в сто пятьдесят лет, сумел изваять фигуру Цезаря, по материалу не слишком отличающуюся от оригинала. В эпоху, когда составлялся сборник, мир, напротив, изменился настолько, что для биографов кануна поздней империи образ жизни и мышления великих Антонинов уже почти непостижим. Монархов сирийской династии, немного более близких по времени, но более экзотичных и быстрее преображенных народной фантазией, еще труднее разглядеть сквозь чащу легенд. Вероятность ошибки из-за временного разрыва в дальнейшем постепенно сходит на нет, меж тем как пожирают друг друга императоры истекающего III столетия, но в эту пору и модель и художник равно ввергнуты в водоворот смятения, насилия и лжи, характерный для кризисных эпох. История Августа с начала и до конца составлена так, будто кучка нынешних литераторов, неплохо информированных, но бесталанных и к тому же не вполне добросовестных, излагает сперва историю Наполеона или Людовика XVIII, перемежая подлинные документы и расхожие анекдоты, окрашенные чуждыми эпохе страстями наших дней, после чего переходит к более поздним событиям и лицам и обрушивает на нас ворох бестолковых сплетен про Жореса, Петена, Гитлера и де Голля, сдобренных кое-какими полезными сведениями и обильно приправленных мешаниной из политических агиток и сенсационных откровений вечерних газет.
Худшее следствие неизменной заурядности авторов жизнеописаний заключается в том, что они никогда не показывают нам человека в его падениях или взлетах, — а это серьезный недостаток, если изображаемый принадлежит к тем, кто знал и вершины, и бездны; и, что еще важнее, мы замечаем этот недостаток лишь в случае, если узнаем из других источников того времени, что персонаж, представший в таком упрощенном, преуменьшенном или преувеличенном виде, был выдающимся человеком. Спартиану удалось показать Адриана ловким администратором, большим прагматиком (чего не замечали те, кто хотел изобразить его этаким отвлеченным эстетом); увидел он и некоторые вызывающие раздражение причуды этой сложной личности. Напротив, во всем, что касается Адриана как человека образованного, любителя искусств и путешествий, наделенного универсальной широтой интересов, его облик доходит до нас искаженным из-за предрассудков иной эпохи или ограниченности ума, свойственной всем временам. Адриан, как и многие его современники, несомненно, интересовался гаданием по небесным светилам, но когда Спартиан изображает, как император-астролог первого января предсказывает, что произойдет, день за днем, в течение будущего года, мы задолго до Средних веков погружаемся в нелепо-легковерный мир самых наивных средневековых хроник. Мысли Адриана о литературе биограф толкует буквально, как невежественный журналист; далеко не всегда находит у него понимание и государственный деятель, вдохновляемый в своих нововведениях и реформах идеалом гуманизма, уже чуждым автору жизнеописания. Благочестивый Антонин превращается под пером Капитолина в персонажа народной агиографии, примерного героя назидательной повести, предназначенной сынам империи. Не будь у нас записей «К себе самому», мы никогда бы не догадались о редком душевном совершенстве меланхоличного Марка Аврелия по сентиментальному портрету доброго императора и безвольного мужа Фаустины, написанному все тем же Капитолином.
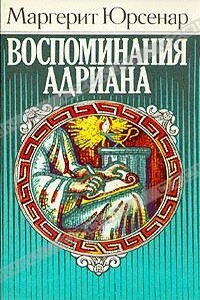
Вымышленные записки-воспоминания римского императора в поразительно точных и живых деталях воскрешают эпоху правления этого мудрого и просвещенного государя — полководца, философа и покровителя искусств, — эпоху, ставшую «золотым веком» в истории Римской империи. Автор, выдающаяся писательница Франции, первая женщина — член Академии, великолепно владея историческим материалом и мастерски используя достоверные исторические детали, рисует Адриана человеком живым, удивительно близким и понятным нашему современнику.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В настоящее издание уникальных записок известного русского юриста, общественного деятеля, публициста, музыканта, черниговского губернского тюремного инспектора Д. В. Краинского (1871-1935) вошли материалы семи томов его дневников, относящихся к 1919-1934 годам.Это одно из самых правдивых, объективных, подробных описаний большевизма очевидцем его злодеяний, а также нелегкой жизни русских беженцев на чужбине.Все сочинения издаются впервые по рукописям из архива, хранящегося в Бразилии, в семье внучки Д.

Генерал М.К. Дитерихс (1874–1937) – активный участник Русско-японской и Первой мировой войн, а также многих событий Гражданской войны в России. Летом 1922 года на Земском соборе во Владивостоке Дитерихс был избран правителем Приморья и воеводой Земской рати. Дитерихс сыграл важную роль в расследовании преступления, совершенного в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, – убийства Царской Семьи. Его книга об этом злодеянии еще при жизни автора стала библиографической редкостью. Дитерихс первым пришел к выводу, что цареубийство произошло из-за глубокого раскола власти и общества, отсутствия чувства государственности и патриотизма у так называемой общественности, у «бояр-западников».

Фредерик Лейн – авторитетный американский исследователь – посвятил свой труд истории Венеции с самого ее основания в VI веке. Это рассказ о взлете и падении одной из первых европейских империй – уникальной в своем роде благодаря особому местоположению. Мореплавание, морские войны, государственное устройство, торговля, финансы, экономика, религия, искусство и ремесла – вот неполный перечень тем, которые рассматривает автор, представляя читателю образ блистательной Венецианской республики. Его также интересует повседневная жизнь венецианцев, политика, демография и многое другое, включая мифы, легенды и народные предания, которые чрезвычайно оживляют сухой перечень фактов и дат.

Мистикой и тайной окутаны любые истории, связанные с эсэсовскими замками. А отсутствие достоверной информации порождало и порождает самые фантастические версии и предположения. Полагают, например, что таких замков было множество. На самом деле только два замковых строения имели для СС ритуальный характер: собор Кведлинбурга и замок Вевельсбург. После войны молва стала наделять Вевельсбург дурной славой места, где происходят таинственные и даже жуткие истории. Он превратился в место паломничества правых эзотериков, которые надеялись найти здесь «центр силы», дарующий если не власть, то хотя бы исключительные таланты и способности.На чем основаны эти слухи и что за ними стоит — читайте в книге признанного специалиста по Третьему рейху Андрея Васильченко.

В своей новой книге «Преступления без наказания» Анатолий Терещенко вместе с человеком, умудренным опытом – Умником, анализирует и разбирает некоторые нежелательные и опасные явления для России, которая в XX веке претерпела страшные военно-политические и социально-экономические грозы, связанные с войнами, революциями, а также развал Советского Союза и последовавшие затем негативные моменты, влияющие на российское общество: это глубокая коррупция и масштабное воровство, обман и пустые обещания чиновников, некомпетентность и опасное кумовство.