Личное дело. Рассказы - [4]
Но мой критик не унимался. «К чему оправдываться в том, что уже написано, если имелись серьезные основания не писать вовсе», – говорил он.
Допускаю, что все, почти все на свете может послужить весомым аргументом в пользу решения – не писать. Но раз уж воспоминания написаны, мне остается сказать в их защиту одно: составленные без оглядки на общепринятые правила, эти мемуары – не беспорядочное словесное извержение. В них есть надежда и цель. Надежда, что по прочтении этих страниц может сложиться представление о личности человека, стоящего за столь разными книгами, как, скажем, «Причуда Олмейера» и «Тайный агент», и все же человека неслучайного и последовательного как в мотивах, так и в поступках. Это – надежда. Непосредственная же цель созвучна надежде и состоит в том, чтобы записать личные воспоминания и правдиво передать чувства и переживания, связанные с рождением моей первой книги и первым знакомством с морем.
В совместном звучании двух этих натянутых струн дружеский слух, надеюсь, различит некую гармонию.
Дж. К. К.
Примечание автора
Переиздание этой книги, строго говоря, не требует нового предисловия. Но, коль скоро лучшего места для личных замечаний не найти, я воспользуюсь возможностью в этой части обратиться к двум темам, которые, как я заметил, последнее время часто обсуждаются, когда речь заходит обо мне в печати. Первая из них затрагивает вопрос языка. Я всегда ощущал, что на меня смотрят как на некий феномен, – и такое суждение вряд ли можно назвать завидным, если только вы не выступаете на арене цирка. Нужно быть человеком особого склада, чтобы получать удовлетворение от возможности намеренно совершать нелепые поступки из чистого самолюбования. Тот факт, что я пишу не на родном языке, конечно же, обсуждался почти в каждой заметке, обзоре и более пространных критических статьях, посвященных различным моим произведениям. Полагаю, это неизбежно; нет сомнений в том, что эти комментарии могли бы польстить авторскому самолюбию. Но только не моему: в этом вопросе я лишен его совершенно. Да и взяться ему неоткуда. Первая задача этого предисловия – убедить читателя, что осознанный выбор языка не является заслугой.
Распространено представление, будто я вынужден был выбирать между двумя неродными для меня языками – французским и английским. Это представление ошибочно. Я вижу его истоки в статье, написанной сэром Хью Клиффордом и опубликованной в 1898-м году минувшего века. Немногим ранее сэр Клиффорд нанес мне визит. Он был если не первым, то вторым моим другом, обретенным благодаря работе (вторым был мистер Каннингем-Грэм [2], которого, что характерно, покорил мой рассказ «Форпост прогресса»). Эти дружеские отношения, выстоявшие до сего дня, я отношу к самым драгоценным своим достояниям.
Мистер Хью Клиффорд (в то время он еще не был удостоен рыцарства) только что опубликовал первый том своих малайских записок. Я был искренне рад его видеть и бесконечно благодарен за теплые отзывы о моих первых книгах и нескольких ранних рассказах, действие которых происходило на Малайском архипелаге. Я помню, что после всех добрых слов, от которых я должен был покраснеть до корней волос, произнесенных им с возмутительной сдержанностью, он с непреклонной и в то же время доброжелательной настойчивостью человека, привыкшего говорить нелицеприятную правду даже восточным властителям (для их же, конечно, пользы), заметил, что я не имею ни малейшего представления о малайцах. Я и сам прекрасно это понимал. Я никогда не претендовал на это знание, и взволнованно парировал (и по сей день я поражаюсь своей наглости): «Конечно, я ничего не знаю о малайцах. Если бы я знал о них хоть сотую долю того, что знаете вы и Франк Светтенхам, от моих книг было бы не оторваться». Он некоторое время доброжелательно, но строго смотрел на меня, пока мы не расхохотались. В ту памятную для меня встречу двадцатилетней давности мы успели поговорить о многом; среди прочего – о характерных особенностях разных языков, и именно в тот день у моего друга сложилось представление, что я сделал осознанный выбор между французским и английским. Позже, когда дружеские чувства (совсем не пустой для него звук) сподвигли его написать заметку о Джозефе Конраде в «Норт Американ Ревью», он поделился этим представлением с публикой.
Ответственность за недоразумение, а это было не что иное, безусловно лежит на мне. Должно быть, в ходе дружеской и доверительной беседы, когда собеседники не слишком тщательно подбирают слова, я недостаточно ясно выразился. Помнится, я хотел сказать, что если бы мне пришлось выбирать между языками, я не решился бы на попытку самовыражения на таком «кристаллизованном» языке, как французский, – хотя и говорю на нем достаточно хорошо с самого детства. «Кристаллизованный» – уверен, я употребил именно это слово. А затем мы перешли к другим темам. Мне пришлось немного рассказать о себе, его же рассказы о работе на Востоке, о том особенном, его личном Востоке, о котором у меня были лишь обрывочные, весьма туманные представления, полностью меня поглотили. Возможно, нынешний губернатор

«Сердце тьмы» – путешествие английского моряка в глубь Африки, психологическое изображение борьбы цивилизации и природы, исследование «тьмы человеческого сердца», созданное Джозефом Конрадом после восьми лет пребывания в Конго. По мотивам повести «Сердце тьмы» был написан сценарий знаменитого фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
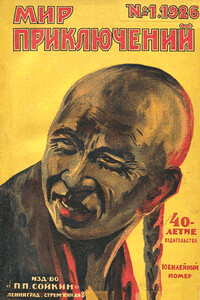
«Мир приключений» (журнал) — российский и советский иллюстрированный журнал (сборник) повестей и рассказов, который выпускал в 1910–1918 и 1922–1930 издатель П. П. Сойкин (первоначально — как приложение к журналу «Природа и люди»). Данный номер — это первоначально выпущенный юбилейный (к сорокалетию издательства «П. П. Сойкин») № 7 за 1925 год (на обложке имеется новая наклейка — № 1, 1926). С 1912 по 1926 годы (включительно) в журнале нумеровались не страницы, а столбцы — по два на страницу (даже если фактически на странице всего один столбец, как в данном номере на страницах 47–48 и 49–50). В исходном файле отсутствует задний лист обложки. Журнал издавался в годы грандиозной перестройки правил русского языка.
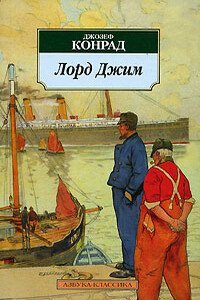
Пароход «Патна» везет паломников в Мекку. Разыгрывается непогода, и члены команды, среди которых был и первый помощник капитана Джим, поддавшись панике, решают тайком покинуть судно, оставив пассажиров на произвол судьбы. Однако паломники не погибли, и бросивший их экипаж ждет суд. Джима лишают морской лицензии, и он вынужден перебраться в глухое поселение на одном из Индонезийских островов…Тайский пароход «Нянь-Шань» попадает в тайфун. Мак-Вир, капитан судна, отказывается поменять курс и решает противостоять стихии до конца…Роман «Лорд Джим» признан критиками лучшим произведением автора.
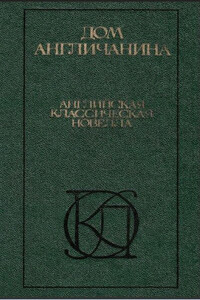
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
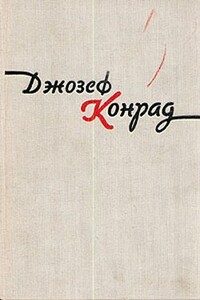
Дж. Конрад — типичный релятивист модернизма. Уход от действительности в примитив, в экзотику фантастических стран, населенных наивными и простыми людьми, «неоруссоизм» характерны для модернистов, и Конрад был ярчайшим выразителем этих настроений английской интеллигенции, искавшей у писателя «чудес и тайн, действующих на наши чувства и мысли столь непонятным образом, что почти оправдывается понимание жизни как состояния зачарованности» (enchanted state): в этих словах заключена и вся «философия» Конрада.
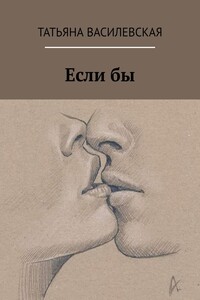
Самое начало 90-х. Случайное знакомство на молодежной вечеринке оказывается встречей тех самых половинок. На страницах книги рассказывается о жизни героев на протяжении более двадцати лет. Книга о настоящей любви, верности и дружбе. Герои переживают счастливые моменты, огорчения, горе и радость. Все, как в реальной жизни…
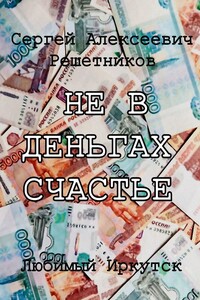
Контрастный душ из слез от смеха и сострадания. В этой книге рассуждения о мироустройстве, людях и Золотом теленке. Зарабатывание денег экзотическим способом, приспосабливаясь к современным реалиям. Вряд ли за эти приключения можно определить в тюрьму. Да и в Сибирь, наверное, не сослать. Автор же и так в Иркутске — столице Восточной Сибири. Изучай историю эпохи по судьбам людей.
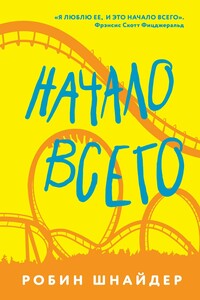
Эзра Фолкнер верит, что каждого ожидает своя трагедия. И жизнь, какой бы заурядной она ни была, с того момента станет уникальной. Его собственная трагедия грянула, когда парню исполнилось семнадцать. Он был популярен в школе, успешен во всем и прекрасно играл в теннис. Но, возвращаясь с вечеринки, Эзра попал в автомобильную аварию. И все изменилось: его бросила любимая девушка, исчезли друзья, закончилась спортивная карьера. Похоже, что теория не работает – будущее не сулит ничего экстраординарного. А может, нечто необычное уже случилось, когда в класс вошла новенькая? С первого взгляда на нее стало ясно, что эта девушка заставит Эзру посмотреть на жизнь иначе.
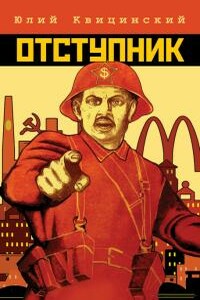
Книга известного политика и дипломата Ю.А. Квицинского продолжает тему предательства, начатую в предыдущих произведениях: "Время и случай", "Иуды". Книга написана в жанре политического романа, герой которого - известный политический деятель, находясь в высших эшелонах власти, участвует в развале Советского Союза, предав свою страну, свой народ.
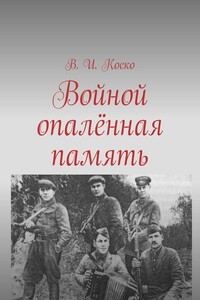
Книга построена на воспоминаниях свидетелей и непосредственных участников борьбы белорусского народа за освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Передает не только фактуру всего, что происходило шестьдесят лет назад на нашей земле, но и настроения, чувства и мысли свидетелей и непосредственных участников борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, борьбы за освобождение родной земли от иностранного порабощения, за будущее детей, внуков и следующих за ними поколений нашего народа.
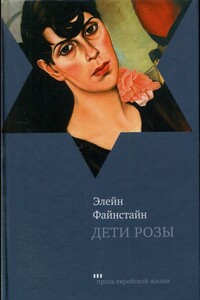
Действие романа «Дети Розы» известной английской писательницы, поэтессы, переводчицы русской поэзии Элейн Файнстайн происходит в 1970 году. Но героям романа, Алексу Мендесу и его бывшей жене Ляльке, бежавшим из Польши, не дает покоя память о Холокосте. Алекс хочет понять природу зла и читает Маймонида. Лялька запрещает себе вспоминать о Холокосте. Меж тем в жизнь Алекса вторгаются английские аристократы: Ли Уолш и ее любовник Джо Лейси. Для них, детей молодежной революции 1968, Холокост ничего не значит, их волнует лишь положение стран третьего мира и борьба с буржуазией.