Лица и сюжеты русской мысли - [95]
Как и всех нас, родившихся до войны, Георгия в школе учили писать перьевой ручкой с нажимом и без него: нажим – волосяная линия – нажим – волосяная… И уже только поэтому мы привыкли воспринимать в словах не только их логическую сторону, рациональные смыслы, но и внутреннюю музыкальную тональность – другое их измерение[421]. Живущие в этом измерении смыслы значат для познания не меньше, чем чистая логика, для которой неважно, написано ли какое-то слово 86-м стальным пером или шариковой ручкой, неспособной к варьированию нажима, как и пишущая машинка или компьютер. В конце концов, логика – общезначимая рациональная плоскость мира. Глубина же мира музыкальна, ритмична, интонационна и потому личностна. Перейдя от перьевых ручек к шариковым и машинному набору, мы сделали свой рационализм еще более одномерным, чем он был до того. Подобная одномерность чужда Георгию Гачеву, чуткому к иным измерениям жизни. Во всем он хотел быть многомерным, может быть, он глубоко усвоил урок, полученный от отца, музыканта и музыковеда, с его коммунистически-ренессансным симфоническим идеалом совершенной личности.
Способность к познанию скрытого у Георгия явно подпитывалась его музыкальностью. Он прекрасно читал вслух классическую литературу, особенно русскую. Культура, казалось, вошла в него прежде всего через ухо. Когда мы с ним уезжали из Москвы в памятные для русской культуры места (Пушкинские горы, Ясная Поляна, Вологда и Кирилло-Белозерский монастырь, Звенигород, Константиново и Солотча), то брали немного книг, тематически связанных с этими местами, с теми, кто их прославил. И там, после лыж, которым отдавали светлую часть дня, вживаясь в окрестный психокосмологос, в гостиничной нумерулле или в комнате частного дома читали, нередко вместе, вслух. Георгий читал бесподобно, возможностями голоса рисуя персонажей и передавая его тональностью авторский замысел.
29 марта 2008 г.
«Дружно гребите против течения во имя прекрасного!» Этому завету А. К. Толстого Георгий был верен. Действительно, науку как интернациональную объективированную культуру практически значимого познания разрабатывали все вокруг нас. Только это и считалось наукой. А вот Георгий Гачев наперекор общему течению раскрывал ее, науки, национальные корни. Всем известно, что в ново-европейской науке главное – эксперимент и теоретическое оформление его результатов в концептуально-математических моделях. А Георгий искал в науке – метафизико-имажинативные подтексты, скрывающиеся в ее терминах и уходящие в глубины национального языка духа народа. Таким образом, в науковедении и культурологии он смело греб против main stream.
Георгий не был книжным человеком, академическим «изучателем» предметов, а вот излучателем находок, неожиданных, порой рискованных, был. Мыслить и жить он стремился интенсивно. Склонности к типовому экстенсивному исследованию у него не было. Он искал показательный и достаточно легко обозримый материал, ориентируясь на немногие оригинальные тексты классических работ и не подвергая методическому прочесыванию большой массив литературы. Но в избранный им кусочек – в свой предмет – он впивался со всей силой, со страстью, целиком. И в результате такого «ввинчивания», причем с неожиданной – словесно-гуманитарной – стороны, получалось что-то новое, чисто гачевское, сразу же узнаваемое. А ведь сегодня авторской оригинальности в непрерывно пополняемом море научной и околонаучной продукции надо еще поискать. Понятно, что с такой манерой работы в академическом Институте истории науки и техники он был аутсайдером, хотя некоторую поддержку и получал. Быть аутсайдером нелегко. Гипнотизирующие чары научности действовали и на него, и когда он попадал в их сети, то заказывал в библиотеке скукотищные, но зато переполненные ученой терминологией издания. Когда я однажды встретил его с такой литературой у дверей библиотеки, то искренне удивился взятым там в абонементе книгам, так как давно уже знал нелюбовь Георгия к такого рода продукции. Думаю, что подобные издания недолго его околдовывали, и он, заглянув в них по диагонали, больше их не касался. Рискованное вольное плаванье против общей струи – таким был его путь в науке. Свой жанр и стиль он создал не как «бесконечный тупик» абстракций, а как достойный внимания и изучения опыт художественно-экзистенциального «жизнемыслия», пробивающий брешь в сверх меры специализированной современной научной культуре.
Здесь уместно одно замечание, касающееся абстрактности в ее нами недооцениваемой способности мимикрировать. Да, обычно мы представляем себе абстракции в виде научных концептов-терминов – «масса», «заряд», «материальная точка», «вектор» и т. п. Но абстракция как дух, как lesprit dabstraction (Марсель), против которого восстала экзистенциальная мысль, может быть и имажинативно-мифологизирующей по материи своих образований. И надо сказать, что в стиле мысли Георгия я находил именно эту разновидность духа абстрактности, к которому в его чисто интеллектуалистской концептуально-терминологической форме он явно не был склонен. Однако в его жизнемыслии, идущем с годами к подлинному свету мудрости, сложилась своя «машина» имажинативного мышления. Ее оперативными деталями выступали готовые, лежащие на поверхности образы, прежде всего гамма традиционных, идущих с Пифагора и Алкмеона, качественных оппозиций, комбинируемых Гачевым по воле интуиции с неизбежным для нее риском субъективизма. В гачевские образы национальных миров науки, как мне это тогда, в конце 70-х – начале 80-х гг., казалось, работа такой «машины» вносила весомый, но спорный в своей научной достоверности вклад. И, быть может, потому в продукции этой «машины» чувствовалось что-то от примитивизма переводных картинок, которыми так увлеченно играет задумчивое детство. Мечтательная, игровая, шаловливая детскость, полная, как и у ребенка, самоупоения своей силой и оригинальностью, чувствовалась и у Георгия. И поэтому в Институте истории естествознания и техники с его специализированной высокоразвитой, методологической культурой научного исследования он действительно был слишком уж явно «белой вороной». И, наверное, поэтому так и не дождался от меня столь ему хотевшейся подробной и, конечно, положительной большой научной рецензии на его опыт «наведения мостов» между точным научным знанием и гуманитарной сферой. А то, что я написал тогда в манере краткого эссе о его пионерских и необычных работах, видимо, не показалось ему солидным анализом.
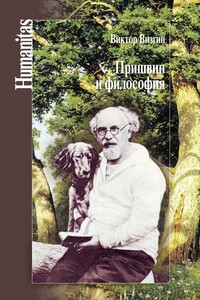
Книга о философском потенциале творчества Пришвина, в основе которого – его дневники, создавалась по-пришвински, то есть отчасти в жанре дневника с характерной для него фрагментарной афористической прозой. Этот материал дополнен историко-философскими исследованиями темы. Автора особенно заинтересовало миропонимание Пришвина, достигшего полноты творческой силы как мыслителя. Поэтому в центре его внимания – поздние дневники Пришвина. Книга эта не обычное академическое литературоведческое исследование и даже не историко-философское применительно к истории литературы.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.

Книга посвящена интерпретации взаимодействия эстетических поисков русского модернизма и нациестроительных идей и интересов, складывающихся в образованном сообществе в поздний имперский период. Она охватывает время от формирования группы «Мир искусства» (1898) до периода Первой мировой войны и включает в свой анализ сферы изобразительного искусства, литературы, музыки и театра. Основным объектом интерпретации в книге является метадискурс русского модернизма – критика, эссеистика и программные декларации, в которых происходило формирование представления о «национальном» в сфере эстетической.
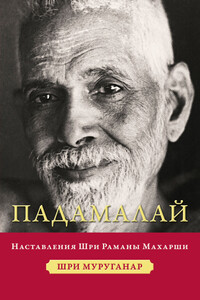
Книга содержит собрание устных наставлений Раманы Махарши (1879–1950) – наиболее почитаемого просветленного Учителя адвайты XX века, – а также поясняющие материалы, взятые из разных источников. Наряду с «Гуру вачака коваи» это собрание устных наставлений – наиболее глубокое и широкое изложение учения Раманы Махарши, записанное его учеником Муруганаром.Сам Муруганар публично признан Раманой Махарши как «упрочившийся в состоянии внутреннего Блаженства», поэтому его изложение без искажений передает суть и все тонкости наставлений великого Учителя.

Автор книги профессор Георг Менде – один из видных философов Германской Демократической Республики. «Путь Карла Маркса от революционного демократа к коммунисту» – исследование первого периода идейного развития К. Маркса (1837 – 1844 гг.).Г. Менде в своем небольшом, но ценном труде широко анализирует многие документы, раскрывающие становление К. Маркса как коммуниста, теоретика и вождя революционно-освободительного движения пролетариата.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.