Лгунья - [47]
Если однажды Реджинальд решится сойти с того пьедестала, на котором они ежедневно по два часа разыгрывали живые картины высокого достоинства и идеальной любви, то, может быть, этим он поможет и ей? Каждое проявление нервозности, каждое грубоватое слово Реджинальда казались ей посулом желанной передышки, сошествия с утонченных высот в ту страну, где она уже не будет через силу изображать в его объятиях статую юной улыбающейся богини, а сможет наконец стать самою собой — обыкновенным земным созданием из плоти, крови, искренности и доверия. И вот уже во время ночных пробуждений (а она то и дело вздрагивала и просыпалась, когда ее сон не был лживым сном свиданий) она представляла себе Реджинальда рядом, в своей постели — разгневанного, ревнивого, капризного; она называла это «спать с Реджинальдом», и крошечное новое существо, поселившееся в ней, угадывало воображаемое присутствие прильнувшего мужского тела и до слез трогательно напоминало обо всем, что мог бы полюбить его сын, — крик петуха, предрассветную зарю, детские забавы. Вот почему Нелли с радостью обнаружила между своими двумя жизнями просвет, сулящий отдохновение и свободные, искренние чувства; это придавало ей новые силы и теперь она с возросшим вдохновением лгала Реджинальду. Не задумываясь, она рассказывала ему о своем старом муже, о своих первых автомобилях. Ей мгновенно приходили на ум имена лошадей, фамилии знатных венгерских тетушек. Все шло прекрасно — вплоть до того дня, когда она поймала взгляд Реджинальда — исполненный муки взгляд жертвы, безжалостный взгляд палача, не оставлявший ни малейших сомнений: он все знал.
Нелли была храброй женщиной. Она не дрогнула. Разговор происходил в самом начале их свидания, в то время, когда они ложились в постель. Неодолимый ужас сковал Нелли; подобный ужас она испытала бы, увидев, что из-под ее кровати высовываются ноги вора. Но она поступила точно так же, как и в том случае. Притворилась, будто не заметила молчания Реджинальда, расставленной им ловушки; продолжила свою игру с бесшабашным удовольствием отчаяния: поведала ему массу подробностей о старенькой венгерской бабушке, вместе с которой слушала по радио «Парижскую жизнь», и, одновременно, обнажила тело, еще недавно священное для него, а ныне ставшее телом лживой мещаночки, — и обнажила истинно по-королевски. Каждый ее жест, каждое движение этого тела, разоблаченного, низвергнутого с трона, остались прежними. Впервые она показывала Реджинальду тело, принадлежавшее Гастону; впервые он принудил ее к этому позору. Шею, руки, грудь, потом ноги — все, чем владел Гастон, — Нелли обнажила с царственной небрежностью и со скрытой болью, такой острой, что от нее хотелось завыть. Как страшно было видеть жесткое лицо Реджинальда, слушать натужно-остроумные речи Реджинальда — ответную ложь, ужасную, непростительную рядом с ее очистительной ложью, которая всегда, и прежде и теперь, стремилась лишь к одному: стать нежной и неоспоримой правдой. Знал ли Реджинальд о Гастоне? Знал ли о двух старых связях? Считал ли он ее тело также собственностью Эрве или бедняги Жака? Жак — тот, по крайней мере, погиб в автомобильной катастрофе. Говорили, будто на выезде из Дижона он загляделся на хорошенькую дамочку и не заметил встречный автобус Париж-Понтарлье. Смерть пришла к нему из Понтарлье со скоростью всего пятьдесят километров в час. Хотя бы в силу этого факта Жак был вынужден отказаться от своих прав на нее. И если бы Гастон погиб, он тоже вернул бы ей свободу. Ох, нет, нельзя, грешно желать этого! Господи, поскорей бы забыть все, не думать, пока он обнимает ее, о теле, принадлежавшем Гастону или Эрве! Неужто он не чувствует, что у нее кровь стынет в жилах?! Единственное средство спастись от навязчивого кошмара — это вообразить, будто с нею не Реджинальд, а некто четвертый (четвертого никогда не будет, но сейчас ее выдумка необходима), который ревнует ее к Реджинальду, ибо она отдает ему тело, принадлежащее Реджинальду. Нелли закрыла глаза. Невыносимо, ужасно было обнимать Реджинальда, переставшего быть Реджинальдом, отдаваться кому-то чужому… ну что ж, по крайней мере, этому незнакомцу досталась возлюбленная Реджинальда.
Так прошла неделя; от Гастона по-прежнему не было никаких вестей. Все полагали, что он уехал в Америку. Нелли начала получать драгоценности, заказанные им к помолвке: видно, Гастон забыл отменить этот заказ. Ей доставили кольцо с квадратным бриллиантом, диадему и кулон в виде золотой пластинки, также с бриллиантом, на которой, если дунуть, возникали два имени — Нелли и Гастон. Гастон, с его методичным умом, вероятно, не преминул заказать и цветы; скоро появятся и они.
Реджинальд, по всей видимости, никак не мог принять окончательное решение. Иногда Нелли чувствовала в нем готовность смириться с обстоятельствами, преобразить их идеальную любовь в приятную необременительную связь. А иногда угадывала жгучую злость и обиду на то, что он попался на ее удочку. Потом эта злость вдруг сменялась не менее сильной жалостью к ней. И в такие минуты Нелли собирала все силы, чтобы сохранить самообладание. Она отчаянно сопротивлялась, не желая признавать себя неправой, достойной жалости. До самого конца она упрямо изображала женщину привилегированного положения, которой можно только смиренно завидовать. Конечно, оставалось еще одно средство: броситься в объятия Реджинальда, расплакаться, во всем признаться, поведать о своей страстной любви к нему; это выглядело бы вполне убедительно и очень трогательно и, вероятно, помогло бы ей завоевать Реджинальда. Но тогда она отреклась бы от самой себя. Существовал некий жизненный закон, который она не могла обойти; некие жизненные установки, которым должна была следовать до конца, даже перед теми, кто знал правду. И потому, выдерживая испуганный взгляд Реджинальда, она всеми своими словами, всеми жестами отрицала грустную очевидность. Более того, щедро разукрашивала некоторые из своих фантазий новыми и новыми подробностями. Не для того, чтобы разозлить Реджинальда и толкнуть его на скандал, а просто из упрямого желания сохранить для себя свой придуманный мир, из заочной солидарности обманщицы со всеми другими обманщиками. Впрочем, она не ощущала никакой вины перед Реджинальдом, совесть ее была спокойна. Она по-прежнему легко и непринужденно обходилась с ним. Тот единственно тягостный миг — миг, когда Реджинальд вспоминал, что она принадлежит другим мужчинам, — ей удалось облегчить для себя удачно придуманным средством: Реджинальд ее новый любовник, а женская память коротка и удерживает только последний роман; вот он и есть ее последний роман. Ее тело, не затронутое прошлым, носило отпечаток прикосновений одного лишь Реджинальда, хранило воспоминание об одном только Реджинальде. И она гордилась тем, что снова и снова гордо показывает, обнажает, носит по улицам это принадлежащее Реджинальду тело.

ЖИРОДУ́ (Giraudoux), Жан (29.X.1882, Беллак, — 31.I.1944, Париж) — франц. писатель. Род. в семье чиновника. Участвовал в 1-й мировой войне, был ранен. Во время 2-й мировой войны, в период «странной войны» 1939-40 был комиссаром по делам информации при пр-ве Даладье — Лаваля, фактически подготовившем капитуляцию Франции. После прихода к власти Петена демонстративно ушел с гос. службы. Ж. начал печататься в 1904.

«Безумная из Шайо» написана в годы Второй мировой войны, во время оккупации Франции немецкими войсками. В центре сюжета – дельцы, разрабатывающие план фактического уничтожения Парижа: они хотят разведывать в городе нефтяные месторождения. Но четыре «безумные» женщины из разных районов решают предотвратить это, заманив олигархов в канализационные тоннели.
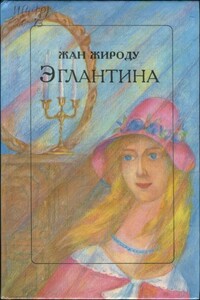
Жан Жироду — классик французской литературы (1882–1944), автор более 30 произведений разных жанров, блестящий стилист, зоркий, остроумный наблюдатель, парадоксальный мыслитель. В России Жироду более известен как драматург — шесть его пьес были опубликованы. Роман «Эглантина» входит в своеобразную четырехтомную семейную хронику, посвященную знатной семье Фонтранжей, их друзьям и знакомым. Один из этих романов — «Лгунья» — опубликован издательством «МИК» в 1994 г. В «Эглантине» речь идет о событиях, которые предшествовали описанным в «Лгунье». На русском языке произведение публикуется впервые.

«Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело отказаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев…».

«Новый замечательный роман г. Писемского не есть собственно, как знают теперь, вероятно, все русские читатели, история тысячи душ одной небольшой части нашего православного мира, столь хорошо известного автору, а история ложного исправителя нравов и гражданских злоупотреблений наших, поддельного государственного человека, г. Калиновича. Автор превосходных рассказов из народной и провинциальной нашей жизни покинул на время обычную почву своей деятельности, перенесся в круг высшего петербургского чиновничества, и с своим неизменным талантом воспроизведения лиц, крупных оригинальных характеров и явлений жизни попробовал кисть на сложном психическом анализе, на изображении тех искусственных, темных и противоположных элементов, из которых требованиями времени и обстоятельств вызываются люди, подобные Калиновичу…».

«Ему не было еще тридцати лет, когда он убедился, что нет человека, который понимал бы его. Несмотря на богатство, накопленное тремя трудовыми поколениями, несмотря на его просвещенный и правоверный вкус во всем, что касалось книг, переплетов, ковров, мечей, бронзы, лакированных вещей, картин, гравюр, статуй, лошадей, оранжерей, общественное мнение его страны интересовалось вопросом, почему он не ходит ежедневно в контору, как его отец…».

«Некогда жил в Индии один владелец кофейных плантаций, которому понадобилось расчистить землю в лесу для разведения кофейных деревьев. Он срубил все деревья, сжёг все поросли, но остались пни. Динамит дорог, а выжигать огнём долго. Счастливой срединой в деле корчевания является царь животных – слон. Он или вырывает пень клыками – если они есть у него, – или вытаскивает его с помощью верёвок. Поэтому плантатор стал нанимать слонов и поодиночке, и по двое, и по трое и принялся за дело…».

Григорий Петрович Данилевский (1829-1890) известен, главным образом, своими историческими романами «Мирович», «Княжна Тараканова». Но его перу принадлежит и множество очерков, описывающих быт его родной Харьковской губернии. Среди них отдельное место занимают «Четыре времени года украинской охоты», где от лица охотника-любителя рассказывается о природе, быте и народных верованиях Украины середины XIX века, о охотничьих приемах и уловках, о повадках дичи и народных суевериях. Произведение написано ярким, живым языком, и будет полезно и приятно не только любителям охоты...

Творчество Уильяма Сарояна хорошо известно в нашей стране. Его произведения не раз издавались на русском языке.В историю современной американской литературы Уильям Сароян (1908–1981) вошел как выдающийся мастер рассказа, соединивший в своей неподражаемой манере традиции А. Чехова и Шервуда Андерсона. Сароян не просто любит людей, он учит своих героев видеть за разнообразными человеческими недостатками светлое и доброе начало.