Лгунья - [23]
Взгляд, который теперь заслонял для Гастона все прочие взгляды Нелли. С той ночи он внимательно следил за ее глазами, но они казались ему неизменно пустыми, слепыми. Иногда ему даже хотелось увидеть их такими же ненавидящими, как той ночью, и убедиться, что в них отражался всего лишь конец дурного сна, в котором все мужчины на свете оскорбляли Нелли или вообще всех-всех женщин на свете — так, как они обычно поступают с ними, унижая, осмеивая, обманывая, насилуя, убивая. Да, верно: в тот день, когда Гастону приснилось бы, что у него отнимают Нелли, он мог проснуться с таким взглядом!
Он нарочно провоцировал эти глаза. Заставлял себя быть злым, едким, циничным, лишь бы на лице Нелли вновь раскрылись, расцвели два черных цветка ненависти, которые, казалось ему, тогда внезапно обнаружились не на обычном месте, а совсем в другом; так пусть же эти глаза раскроются где угодно — на щеках, на груди, на затылке Нелли: он почему-то был уверен, что ее наигранная резкость, притворная вульгарность не возбуждают, а, напротив, утешают ее и что именно благодаря им глаза Нелли, вместо того, чтобы раскрываться на лбу, на кончиках грудей, на подбородке, спокойно и умиротворенно возвращаются в свои, привычные орбиты…
Но было в глазах Нелли и нечто другое. В них таились нелепейшие воспоминания о Реджинальде; они могли нахлынуть в самый неподходящий момент. Шляпа, унесенная ветром на прогулке, носок, выброшенный ею из окна Реджинальда и повисший на ветке дерева… Два воспоминания, чтобы оживить былую страсть… о, какая ничтожная малость!
Однако хватало и их. Шляпа и носок (кажется, старый, дырявый носок, но он так стойко держался до сих пор, — наверное, ветки дерева проросли сквозь петли) заменили собою те чудотворные инструменты любви, в коих нуждаются другие любовники, — Вагнера, ревность, плаванье на яхте. Носок и шляпа вызывали из небытия все лучшие движения души — кротость, нежность, преданность, — ничуть не хуже своих возвышенных собратьев, но в силу скромной второстепенности сообщали их роману патетическую простоту монастырской или тюремной любви. И нечего было опасаться, что когда-нибудь Нелли и Реджинальд пресытятся этими малопочтенными эпизодами: наступит день, и шляпа состарится и не сможет скачками убегать от них; тогда погоня за нею сменится воспоминаниями о ее пропаже, а сама она уступит место новому, а тот, в свою очередь, еще более новому головному убору. Что же касается носка, то его сопротивляемость, особенно после майских ливней, просто обескураживала; зато какое надежное счастье сулил он на долгие годы вперед — счастье сентиментальных бесед, умиленных сравнений эфемерной участи шляп с бессмертной судьбою носков. Да, для романа с Реджинальдом этих пустяков вполне хватало. Даже более чем хватало, — одним предметом можно было и пожертвовать. Если бы Реджинальд пришел без шляпы, если бы на дереве не произрос этот странный трикотажный плод, то и один из двух сюжетов для разговора успешно заменил бы собою все самые необыкновенные, самые яркие события и воспоминания в жизни Нелли.
Конечно, два-три часа в день Нелли все равно страдала, — ведь невозможно утверждать, что столь скромные пособники любви могут надежно уберечь от тоски. Куда ни глянь, видишь шляпы — то на головах мужчин, идущих по улице, то без голов — оставленные на стуле в передней и временами до боли напоминающие ту, настоящую; разница лишь в инициалах. Так же и носки в витринах: некоторые выглядели весьма глупо, а зацепись они за ветку акации в каком-нибудь парижском дворике, казались бы еще глупее… но иногда, в дождливый день, натыкаешься на один такой носок — черный, того же линялого черного цвета, вывалянный в грязи, растоптанный, брошенный на тротуаре или в сточной канаве и как две капли воды похожий на тот (жаль, на нем нет инициалов, чтобы сверить!), прямо близнец, да и только… если бы взбалмошный ветер, шныряющий вдоль бульвара Перейро, на сквере Клиши, между поездами на вокзале Сен-Лазар и вокруг Оперы, не приволок и не швырнул его к дверям портного. А, впрочем, и носок тоже был лишним, — ведь он требовал зрения и дара речи, тогда как, будь Нелли слепо-глухонемой, она могла бы вкусить высшее счастье с Реджинальдом, лишись он также зрения, слуха и речи. Голоса, глаза, уши понадобились им только для первой встречи, но для того, чтобы узнать друг друга, они были уже не нужны…
Не потому ли, что они не знали друг друга раньше, что все их чувства, исключая примитивные, свойственные растениям, оставались невостребованными, они и насладились в полной мере (теперь Нелли в этом уже не сомневалась) своим невообразимым уединением от мира, возвышенным, идеальным счастьем?! На Елисейских полях, за магазином Лорана, на самой верхушке платана трепетал черный лоскутик, до поры до времени ускользавший от бдительного ока садовника. Иногда Нелли нарочно делала крюк, чтобы проверить, на месте ли он.
— Что ты там высматриваешь наверху? — удивлялся Гастон.
— Я… высматриваю наверху?
— О, пожалуйста, смотри, если хочешь!
Главное, чтобы Гастон не заметил носок. Если она будет отрицать, он, чего доброго, остановится и начнет выискивать предмет интереса Нелли.

ЖИРОДУ́ (Giraudoux), Жан (29.X.1882, Беллак, — 31.I.1944, Париж) — франц. писатель. Род. в семье чиновника. Участвовал в 1-й мировой войне, был ранен. Во время 2-й мировой войны, в период «странной войны» 1939-40 был комиссаром по делам информации при пр-ве Даладье — Лаваля, фактически подготовившем капитуляцию Франции. После прихода к власти Петена демонстративно ушел с гос. службы. Ж. начал печататься в 1904.

«Безумная из Шайо» написана в годы Второй мировой войны, во время оккупации Франции немецкими войсками. В центре сюжета – дельцы, разрабатывающие план фактического уничтожения Парижа: они хотят разведывать в городе нефтяные месторождения. Но четыре «безумные» женщины из разных районов решают предотвратить это, заманив олигархов в канализационные тоннели.
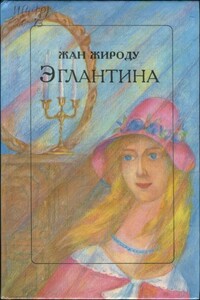
Жан Жироду — классик французской литературы (1882–1944), автор более 30 произведений разных жанров, блестящий стилист, зоркий, остроумный наблюдатель, парадоксальный мыслитель. В России Жироду более известен как драматург — шесть его пьес были опубликованы. Роман «Эглантина» входит в своеобразную четырехтомную семейную хронику, посвященную знатной семье Фонтранжей, их друзьям и знакомым. Один из этих романов — «Лгунья» — опубликован издательством «МИК» в 1994 г. В «Эглантине» речь идет о событиях, которые предшествовали описанным в «Лгунье». На русском языке произведение публикуется впервые.

«Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело отказаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев…».

«Новый замечательный роман г. Писемского не есть собственно, как знают теперь, вероятно, все русские читатели, история тысячи душ одной небольшой части нашего православного мира, столь хорошо известного автору, а история ложного исправителя нравов и гражданских злоупотреблений наших, поддельного государственного человека, г. Калиновича. Автор превосходных рассказов из народной и провинциальной нашей жизни покинул на время обычную почву своей деятельности, перенесся в круг высшего петербургского чиновничества, и с своим неизменным талантом воспроизведения лиц, крупных оригинальных характеров и явлений жизни попробовал кисть на сложном психическом анализе, на изображении тех искусственных, темных и противоположных элементов, из которых требованиями времени и обстоятельств вызываются люди, подобные Калиновичу…».

«Ему не было еще тридцати лет, когда он убедился, что нет человека, который понимал бы его. Несмотря на богатство, накопленное тремя трудовыми поколениями, несмотря на его просвещенный и правоверный вкус во всем, что касалось книг, переплетов, ковров, мечей, бронзы, лакированных вещей, картин, гравюр, статуй, лошадей, оранжерей, общественное мнение его страны интересовалось вопросом, почему он не ходит ежедневно в контору, как его отец…».

«Некогда жил в Индии один владелец кофейных плантаций, которому понадобилось расчистить землю в лесу для разведения кофейных деревьев. Он срубил все деревья, сжёг все поросли, но остались пни. Динамит дорог, а выжигать огнём долго. Счастливой срединой в деле корчевания является царь животных – слон. Он или вырывает пень клыками – если они есть у него, – или вытаскивает его с помощью верёвок. Поэтому плантатор стал нанимать слонов и поодиночке, и по двое, и по трое и принялся за дело…».

Григорий Петрович Данилевский (1829-1890) известен, главным образом, своими историческими романами «Мирович», «Княжна Тараканова». Но его перу принадлежит и множество очерков, описывающих быт его родной Харьковской губернии. Среди них отдельное место занимают «Четыре времени года украинской охоты», где от лица охотника-любителя рассказывается о природе, быте и народных верованиях Украины середины XIX века, о охотничьих приемах и уловках, о повадках дичи и народных суевериях. Произведение написано ярким, живым языком, и будет полезно и приятно не только любителям охоты...

Творчество Уильяма Сарояна хорошо известно в нашей стране. Его произведения не раз издавались на русском языке.В историю современной американской литературы Уильям Сароян (1908–1981) вошел как выдающийся мастер рассказа, соединивший в своей неподражаемой манере традиции А. Чехова и Шервуда Андерсона. Сароян не просто любит людей, он учит своих героев видеть за разнообразными человеческими недостатками светлое и доброе начало.