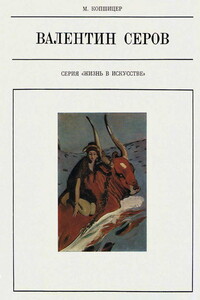Левицкий - [9]
1807 год. Левицкого уже двадцать лет нет в Академии художеств, и тем не менее академическая администрация поднимает вопрос о включении старого мастера в состав Совета. Это рука помощи портретисту, который со смертью зятя оказался кормильцем своей овдовевшей дочери и ее детей. При этом конференц-секретарь Академии и вице-президент подчеркивают, что Левицкому все труднее становится находить заказы. Именно находить в силу изменявшихся вкусов и моды, а не выполнять — работать живописец способен по-прежнему.
1812 год. Недавнему выпускнику Академии Ивану Яковлеву предлагается в качестве программы на звание академика написать портрет Левицкого. Учитель Яковлева, А. Г. Варнек, пользуется предлогом, чтобы поместить в академических залах портрет почитаемого им живописца. Слухи утверждают, что голова на портрете была прописана самим Варнеком — нота острого психологизма, введенная в парадное изображение.
Левицкий на портрете И. Е. Яковлева — А. Г. Варнека не молод, но ему далеко и до старческой дряхлости. Непринужденный поворот сидящей фигуры. Поредевшие, но все еще достаточно густые волосы. Живой напряженный взгляд, полный внутренней энергии и иссекающего интереса к жизни. Сложнейший натюрморт, где каждая деталь подсказывает все новые и новые подробности из жизни художника.
Теплый плед на ногах — Левицкий страдал жестоким ревматизмом, на который не обратили внимание биографы, но о котором хорошо знали друзья художника из масонской среды. А ведь ревматику трудно опуститься на колени, тем более невозможно ползти на больных распухших суставах, как утверждает С. Лайкевич. В руках художника и на столе рядом с ним книги — Левицкий увлекался литературой и был одним из образованнейших людей своего времени, тем более в среде художников. Рукопись как напоминание о литературных занятиях, рулон рисовальной бумаги — Левицкий был превосходным рисовальщиком и обращал особенное внимание на рисунок в работе с учениками, очки — в них художник принужден был и читать и работать. Кстати, характер его взгляда, очень точно зафиксированный Варнеком, говорит о сильно развитой дальнозоркости.
В этом перечислении подробностей Яковлев старомоден. XIX век приносит с собой отказ от «многозначительных» деталей, сосредоточивая все внимание художника на внутренней характеристике человека.
В те же годы М. Н. Шамшин ограничивается на портрете скульптора И. П. Прокофьева изображением одного гипсового бюста; М. И. Теребенев в портрете пейзажиста Ф. Я. Алексеева — кисти; И. Б. Лампи в портрете профессора исторической живописи И. А. Акимова — карандаша в рейсфедере и папки с рисунками. Возможно, редкая разносторонность Левицкого, необычная для современных ему художников, побудила портретиста не ограничиваться каким-то одним намеком на профессию живописца, обратиться к старым привычным приемам. Но главное — яковлевского Левицкого нельзя себе представить неспособным держать кисть, писать, работать, если даже ухудшающееся здоровье и давало себя знать. Да ведь и в том же 1812 году Левицкий не прочь вернуться в Академию в качестве преподавателя.
Наконец, 1820-е годы. После смерти мужа вдова Левицкого поднимает вопрос о назначении ей вдовьей пенсии. При этом семья по-прежнему живет в доме на Кадетской линии, лишь половина которого была заложена за очень значительную по тем временам сумму в две тысячи рублей. Одно только содержание этого дома и налоги на него превышали академический оклад Левицкого. Не имея ни наследственного, ни благоприобретенного капитала, средства для жизни художник мог зарабатывать единственно собственным трудом. Этот логический вывод подтверждают и самые прозаические, зато вполне достоверные свидетели в виде петербургских адрес-календарей.
Семейные предания, в общем поддерживающие версию о немощах и неспособности работать Левицкого, ничего не сумели рассказать о последних годах художника. По мнению большинства биографов и в том числе семейных историков, Левицкий оставил в 1818 году Петербург и переселился на Украину. Однако претендуя на исчерпывающую осведомленность о жизни прославленного предка, потомки Левицкого не знали его конца: где именно — на Украине или все же в Петербурге — умер и похоронен портретист. И вот адрес-календари, регулярно издававшиеся справочники о жителях столицы, вносили в этот вопрос полную ясность. До конца своих дней Левицкий оставался жителем Петербурга, до конца хотел или принужден был работать по заказам. К тому же выводу приходил на основании развернутого искусствоведческого анализа и Е. Иванойко. В письме из Познани между прочим говорилось:
«Должен еще раз подтвердить под впечатлением нового осмотра портрета, что он представляет создание большого таланта и не несет на себе никаких следов творческого упадка по меньшей мере немолодого уже мастера. Опыт полувековой работы Левицкий использует здесь совершенно новаторски, не оставаясь на позициях XVIII века. Основная характерная черта, роднящая наш портрет с традициями XVIII столетия, это яркий психологизм, так принципиально отличающий произведения русской школы от всех современных ей западноевропейских школ. Этот психологизм, которым отмечено лицо на портрете, в полной мере, конечно, ощущается при непосредственном общении с оригиналом, поскольку в нем немаловажную роль играют колористические особенности решения, основанного на достаточно звучных цветах. Одним словом, картина, относящаяся к позднему периоду творчества Левицкого, представляет убедительное свидетельство его большого и оставшегося до конца неистощенным таланта и как таковая заслуживает места в музее. Тем более что сохранилась она очень хорошо — без малейших смытостей и дописок».
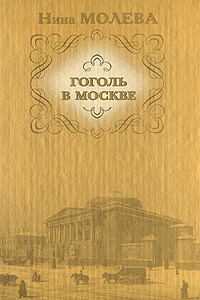
Гоголь дал зарок, что приедет в Москву только будучи знаменитым. Так и случилось. Эта странная, мистическая любовь писателя и города продолжалась до самой смерти Николая Васильевича. Но как мало мы знаем о Москве Гоголя, о людях, с которыми он здесь встречался, о местах, где любил прогуливаться... О том, как его боготворила московская публика, которая несла гроб с телом семь верст на своих плечах до университетской церкви, где его будут отпевать. И о единственной женщине, по-настоящему любившей Гоголя, о женщине, которая так и не смогла пережить смерть великого русского писателя.
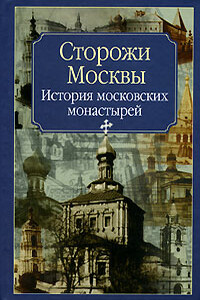
Сторожи – древнее название монастырей, что стояли на охране земель Руси. Сторожа – это не только средоточение веры, но и оплот средневекового образования, организатор торговли и ремесел.О двадцати четырех монастырях Москвы, одни из которых безвозвратно утеряны, а другие стоят и поныне – новая книга историка и искусствоведа, известного писателя Нины Молевой.
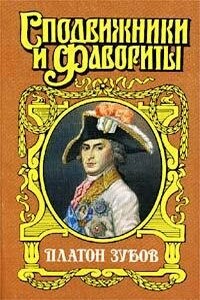
Новый роман известной писательницы-историка Нины Молевой рассказывает о жизни «последнего фаворита» императрицы Екатерины II П. А. Зубова (1767–1822).
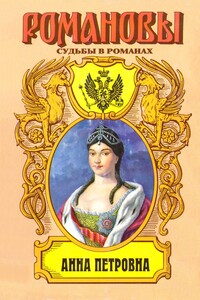
По мнению большинства историков, в недописанном завещании Петра I после слов «отдать всё...» должно было стоять имя его любимой дочери Анны. О жизни и судьбе цесаревны Анны Петровны (1708-1728), герцогини Голштинской, старшей дочери императора Петра I, рассказывает новый роман известной писательницы Нины Молевой.
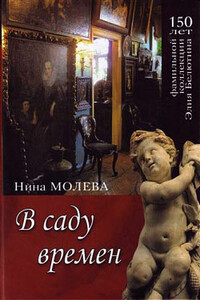
Эта книга необычна во всем. В ней совмещены научно-аргументированный каталог, биографии художников и живая история считающейся одной из лучших в Европе частных коллекций искусства XV–XVII веков, дополненной разделами Древнего Египта, Древнего Китая, Греции и Рима. В ткань повествования входят литературные портреты искусствоведов, реставраторов, художников, архитекторов, писателей, общавшихся с собранием на протяжении 150-летней истории.Заложенная в 1860-х годах художником Конторы императорских театров антрепренером И.Е.Гриневым, коллекция и по сей день пополняется его внуком – живописцем русского авангарда Элием Белютиным.
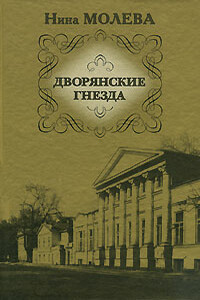
Дворянские гнезда – их, кажется, невозможно себе представить в современном бурлящем жизнью мегаполисе. Уют небольших, каждая на свой вкус обставленных комнат. Дружеские беседы за чайным столом. Тепло семейных вечеров, согретых человеческими чувствами – не страстями очередных телесериалов. Музицирование – собственное (без музыкальных колонок!). Ночи за книгами, не перелистанными – пережитыми. Конечно же, время для них прошло, но… Но не прошла наша потребность во всем том, что формировало тонкий и пронзительный искренний мир наших предшественников.

21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лина Кавальери (1874-1944) – божественная итальянка, каноническая красавица и блистательная оперная певица, знаменитая звезда Прекрасной эпохи, ее называли «самой красивой женщиной в мире». Книга состоит из двух частей. Первая часть – это мемуары оперной дивы, где она попыталась рассказать «правду о себе». Во второй части собраны старинные рецепты натуральных средств по уходу за внешностью, которые она использовала в своем парижском салоне красоты, и ее простые, безопасные и эффективные рекомендации по сохранению молодости и привлекательности. На русском языке издается впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».
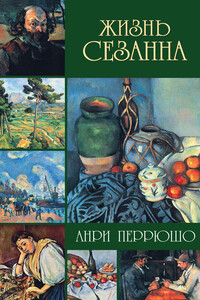
Писатель Анри Перрюшо, известный своими монографиями о жизни и творчестве французских художников-импрессионистов, удачно сочетает в своих романах беллетристическую живость повествования с достоверностью фактов, пытаясь понять особенности творчества живописцев и эпохи. В своей монографии о знаменитом художнике Поле Сезанне автор детально проследил творческий путь художника, процесс его профессионального формирования. В книге использованы уникальные документы, воспоминания современников, письма.
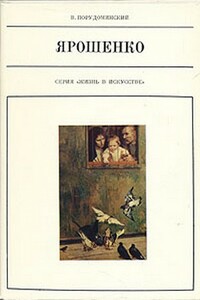
Книга посвящена одному из популярных художников-передвижников — Н. А. Ярошенко, автору широко известной картины «Всюду жизнь». Особое место уделяется «кружку» Ярошенко, сыгравшему значительную роль среди прогрессивной творческой интеллигенции 70–80-х годов прошлого века.
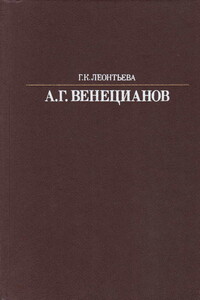
Книга посвящена замечательному живописцу первой половины XIX в. Первым из русских художников Венецианов сделал героем своих произведений народ. Им создана новая педагогическая система обучения живописи. Судьба Венецианова прослежена на широком фоне общественной и литературно-художественной жизни России того времени.