Лев Толстой - [7]
И изо всего этого, из обычностей и мелочей, чудно поднимается возвышенная красота. У Толстого обыденность переходит в величие как-то незаметно. Он творит из праха, из ничего – и чистейшими волнениями волнует сердце. Среди будней, из их материала, он устраивает праздник духа; из прозы вырастает у него благоуханная поэзия – поэзия любви, детства, природы, вся пленительность и вся трагедия, и все умиление и таинство жизни, вся гамма чувств и страстей, – и хочется его благодарить, и хочется его благословлять. Подобно своей Долли, он в Сахаре жизни находит другими не замеченные радости и всю вообще высокую человечность – как золото в песке. В мировое величие «Войны и мира» он вводит ничтожными словами ничтожной женщины (вспомните начальные строки романа). Он – бесстрашный натуралист и ничего не стесняется, обо всем говорит, каких только сторон обыденности не касается он, например, в «Смерти Ивана Ильича» или «Ягодах»! И тем не менее его натурализм сочетается с такой целомудренностью, с такой незапятнанной чистотою, светлее которой нельзя ничего найти на самых эфирных высотах романтизма. Он неоспоримо доказал, что вовсе нет необходимой связи между натурализмом и беззастенчивой манерой в духе Золя. Он и к постели роженицы подведет нас, но эстетически и этически нигде не оскорбит, как неоскорбительна вообще вся его физиология, даже в «Холстомере». Быть неизменно верным природе и в то же время сохранить стыдливость – это ему дано в высшей мере, и это позволило ему в таких тонах правды, сдержанности и чистоты написать сцену увлечения Катюши Нехлюдовым или то, как Анна Каренина, побежденная Вронским, все «ниже опускала свою когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову»…
Поэт жизни, глубоко имманентный ей, не ищущий красоты и смысла над нею или вне ее, он в своем органическом уклонении от всякой риторики и декламации находит, как и Левин, что «слова снимают красоту» с вещей и «благородные слова редко сходятся с благородными делами» и «великое слово портит великое дело». Толстой не то что боится фразы и позы, а просто не умеет их, и, целомудренный, застенчивый и в своей застенчивости кажущийся угрюмым, он бережется, как бы словом не оскорбить жизни, не оскорбить правды: ведь слово так легко переходит в словесность. Его не прельщает человечество «французское», театральное и нарядное с его героями и гениями, все эти афоризмы, изречения, девизы – блестящие вывески, парадные спектакли истории. Наполеона, этот воплощенный эффект, он развенчивает и презирает, отказывает ему в гениальности, противопоставляет ему не только прозаического Кутузова, но и, главным образом, Каратаева с его «круглотою». Он в подвиге заметит пошлость или, по меньшей мере, снимет с него наряд и парад, обнаружит его неэстетичность – и, в бесстрашии толстовского реализма, девочка, которую спасает из пламени Безухое, оказывается золотушной, неприятной, вызывает гадливость. Певец простодушия, певец классического русского простеца, он отвергает всякую мишуру и позолоту и разрушает мнимую торжественность. Ему, напротив, приятны и милы всяческие неловкости (он сам неловкий) – то, например, как Левин во время венчания путается руками с Кити и ни за что не может понять, чего хочет от него священник. Или для него удовольствие – спугнуть благолепие именинного обеда звонким возгласом Наташи: «Мама, какое пирожное будет?» Ту жизнь, которая ему не нравится, в которой он видит внутреннюю ложь, он всегда изображает как обряд, берет ее с ее механической и внешней стороны. Он рассеивает ложь своею победоносной правдой. Он опасен и страшен тем, что проникает в затаенные побуждения человека, любит переводить его, часто обманные, слова на язык их истинного смысла; он разоблачает в других и в себе самое тонкое притворство и лицемерие, в котором иной раз и сам не даешь себе отчета. Он знает человеческую нецельность, нестройность, и даже его лучезарная Мария Болконская таит в себе злое чувство к своей прежней сопернице Соне. Влюбленный и влюбляющий в Наташу, он не скроет ее физического увлечения. Он услышит, что немец-полковник «с видимой радостью, не в силах удержаться от счастливой улыбки» звучно отрубит красивое слово наповал, когда будет доносить о своих убитых гусарах. Он почует тщеславие горести, он и в сердце матери подметит «затаенное чувство недоброжелательства, которое всегда есть у нее против будущего супружеского счастья дочери», и в отношениях мужа к жене укажет на перемежающееся чувство «тихой ненависти». Часто люди у него, как в беседе Воронцова с Хаджи-Муратом, говорят одно, а глаза их выражают другое, и вот это разногласие и вечный поединок, в котором находятся уста и глаза, как никто, подмечает и разоблачает Толстой. Он никогда мощью своего анализа не позволит себе и нам обмана и самообмана.
Это постоянное изобличение могло бы превратиться в нечто недостойное и мелочное; но знаменательно и отрадно в нем, писателе строгом, что, разоблачая с такою неумолимой силой, с такой беспощадной к себе и к другим проницательностью, он, однако, не приходит к скептицизму, к отрицанию людей. Он не Ларошфуко, этот, по выражению Ницше, меткий стрелок, который всегда попадает в черноту человека. Толстой без идеализации обретает идеал. В неудержимом тяготении к серому и затрапезному одеянию быта, сняв с него все пышные и праздничные уборы, от полководцев спустившись к Акиму, чистящему городские ямы, с его тае вместо слов, и еще в большем тяготении к обнаженной душе, к жизни раскрытой, к людям изобличенным он именно в этой наготе увидел нечто утешительное и прекрасное. Не нужен возвышающий обман, потому что не низка истина. Это ничего, что, хранитель правды, враждебный эффектам, он должен был рассказать, как при первом свидании с Нехлюдовым в тюрьме – свидании, которого с таким напряженным трепетом ожидают читатели, – Катюша Маслова попросила у последнего десять рублей; это ничего, вы не станете презирать Маслову, не откажете ей в человечности. Правда не презренна. А с другой стороны, характерно для Толстого разжалование героя. Творец Платона Каратаева отнял у нас Наполеона, безжалостно разбил воздушный корабль по синим волнам океана и все эти красивые сказки про двенадцать часов по ночам. Горе той легенде, к которой приближается Толстой, – но зато счастье правде! Зато он, в сущности, только и делает, что открывает неведомые раньше человеческие клады, – хотя бы этого маленького, незаметного капитана Тушина, про которого все забыли и который, «не выпуская своей носогрейки», бегал от одного орудия осыпаемой ядрами батареи к другому и оказался истинным героем Шенграбена. Величие малого, красота некрасивого, обаяние обыкновенности показаны Толстым так ярко и проникновенно, и в этом – источник оптимизма. Он утешает человечество, узнающее себя в его книгах, он дает силы жить; сама жизнь не знала, он перед ней обнаружил, как она хороша и сколько чистого и возвышенного поднимается кругом нас. Доверие к реальному, невыдуманному и слабому человеку с его «простым, комнатным лицом» – оно не дороже ли того благоговения к людям, которое ценит в них только подвиг, только ореол, только исключительность?

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
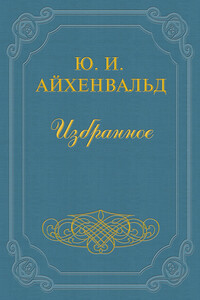
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».

«Наиболее поразительной и печальной особенностью Горького является то, что он, этот проповедник свободы и природы, этот – в качестве рассказчика – высокомерный отрицатель культуры, сам, однако, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосредственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать их вольной мощью своею, на самом деле заглушено тем резонерством и умышленностью, которые на первых же шагах извратили его перо, посулившее было свежесть и безыскусственность описаний.
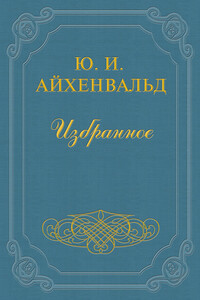
«„Слепой музыкант“ русской литературы, Козлов стал поэтом, когда перед ним, говоря словами Пушкина, „во мгле сокрылся мир земной“. Прикованный к месту и в вечной тьме, он силой духа подавил в себе отчаяние, и то, что в предыдущие годы таилось у него под слоем житейских забот, поэзия потенциальная, теперь осязательно вспыхнуло в его темноте и засветилось как приветливый, тихий, не очень яркий огонек…».
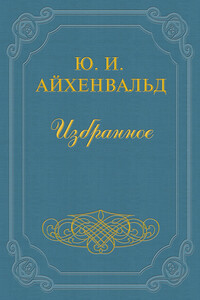
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».

Предисловие к сборнику сочинений Н.С. Трубецкого, одного из видных деятелей евразийства начала XX века, посвященная разбору наследия этого историко-филосовского течения.

Очерки Бальзака сопутствуют всем главным его произведениям. Они создаются параллельно романам, повестям и рассказам, составившим «Человеческую комедию».В очерках Бальзак продолжает предъявлять высокие требования к человеку и обществу, критикуя людей буржуазного общества — аристократов, буржуа, министров правительства, рантье и т.д.

Кир Булычев и Эдуард Геворкян! Сергей Лукьяненко и Владимир Васильев!И многие, многие другие — писатели уже известные и писатели-дебютанты — предлагают вашему вниманию повести и рассказы.Космические приключения и альтернативная история, изысканные литературные игры и искрометный юмор — этот сборник так же многогранен, как и сама фантастика!«Танцы на снегу» Сергея Лукьяненко, «Путешествие к Северному пределу» Эдуарда Геворкяна, «Проснуться на Селентине» Владимира Васильева — вы еще не читали эти произведения? Прочтите!

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
